Содержание
Введение
Часть 1. Происхождение и эволюция человека. Восхождение к вершине?
1.1. Антропогенез
1.2. Социальная эволюция
1.3. Роль «альтруистической» кооперации и «эгоистической» дифференциации в эволюционном процессе
1.4. Эволюционный подход Ричарда Докинза к человеку
Часть 2. Этногенез и основные факторы этнической эволюции
2.1. Определение понятия «этнос»
2.2. Теория этногенеза Гумилева
2.3. Механизм этногенеза
2.4. Пластичность: универсальный фактор эволюционного процесса
2.5. Принцип компенсации энтропийного возмущения и его роль в этноэволюции
2.6. Уровни этнической классификации
2.7. Этнологический портрет Кавказа
Часть 3. Фазы этноэволюции
3.1. Общий обзор
3.2. Первично-патриархальная фаза развития этноса
3.3. Прагматическая, утилитарная фаза
3.4. Чувственная, гедонистическая фаза
3.5. Сосуществование культур
3.6. Закат этноса: идеациональная фаза и реликтовая культура
Вместо заключения. Излечим ли «комплекс Эрисихтона»?
Что такое эволюция – теория, система, гипотеза?.. Нет, нечто гораздо большее, чем все это: она – основное условие, которому должны отныне подчиняться и удовлетворять все теории, гипотезы, системы, если они хотят быть разумными и истинными. Свет, озаряющий все факты, кривая, в которой должны сомкнуться все линии, – вот что такое эволюция.
Тейяр де Шарден П. Феномен человека
Введение
В этнологии значительно больше нерешенных вопросов, чем во многих других общественно-социальных областях знания. И это неудивительно с учетом того незначительного промежутка времени, который прошел с момента ее становления. Официальной датой рождения этнологии принято считать 1839 год, когда было основано Парижское общество этнологии. До сих пор нет общепринятого мнения по поводу «примитивных» этнокультур. Что это, культуры, задержавшиеся в своем развитии, или, напротив, пережившие период расцвета и вторично пришедшие к упадку? Или, может быть, вообще критерии оценки уровня развития этноса, принятые в Западной цивилизации, в других культурах попросту не работают? Почему одни этносы бурно растут и расширяются, а затем также внезапно регрессируют, другие же на протяжении тысячелетий занимают свою скромную нишу практически в неизменном виде. Как протекают процессы первичного формирования этносов, каков собственно механизм этногенеза? Этносы формируются революционным путем, в результате бифуркации внезапно перейдя в новую сущность, либо плавно, эволюционно, в результате постепенного накопления различий? Синергетическая модель эволюции, по нашему мнению, позволит по-новому рассмотреть эти и многие другие нерешенные вопросы. В первую очередь, следует выявить основные движущие силы этноэволюции, в чем заключается его потенциал и почему этносы столь различны в своих возможностях и проявлениях.
Вопрос о том, что составляет основу развития общества – его социально-экономическая структура или этнический состав, является не только сложным, но и весьма неоднозначным. С одной стороны, к примеру, мы имеем яркий образец определяющей роли социально-экономической структуры общества при сравнении темпов социально-экономического развития в Северной и Южной Кореях, с другой – часто единая социально-политическая структура приводит к весьма различным результатам в государствах с различным этническим составом. Достаточно сравнить ГДР и Венгрию с Кубой и Албанией конца XX века. В странах с капиталистическим способом хозяйствования разброс в темпах развития еще выше. Значит, этническая составляющая имеет не меньшее, а может, даже и большее значение в социальных процессах. Конечно же, процессы социальной эволюции сложны и многогранны и не сводятся к его этнической составляющей, но этногенетические процессы достаточно наглядно отражают основные тенденции социального развития. Провести же исчерпывающий анализ социогенетических процессов, тем более в рамках одной работы, невозможно. Поэтому основное внимание в анализе социального уровня универсального эволюционизма было уделено именно этноэволюции.
В действительности, на все анализируемые закономерности этноэволюции накладывают отпечаток процессы, связанные с развитием систем территориальных, религиозных (в тех случаях, когда они не являются гранью этнической культуры), государственных, а также многофакторных образований. Поэтому, рассматривая модель этноэволюции, мы невольно создаем для себя идеализированную однофакторную систему. При таком подходе, когда неизбежны формальные упрощения, приходится мириться с некоторыми несоответствиями.
Поскольку в работе проводится множество параллелей между процессами биогенеза и социогенеза, может показаться, что автор стоит на позициях социобиологии или даже социал-дарвинизма. Автор является последовательным противником любых попыток редукционистских сведений закономерностей социальной эволюции к их биологическим истокам. Конечно же, нельзя отрицать, что социальные процессы во многом аналогичны биологическим и, постигая закономерности биогенеза, проще понять законы и социальной эволюции. Однако социальная эволюция, и этноэволюция в том числе, протекает по собственным законам. В этом нет никакого противоречия, поскольку принципы самоорганизации едины для всех систем, далеких от равновесия, каковыми являются социальные и биологические системы. И для разработки единой теории универсального эволюционизма необходим поиск общих принципов, при этом нельзя забывать о тех уникальных механизмах самоорганизации, которые свойственны качественно различным уровням неравновесности.
Часто при рассмотрении этносов этнографы неосознанно их оценивают как статичные сущности, имеющие строго определенный комплекс этнодифференцирующих признаков. Все же следует считаться с тем, что особенности, связанные с возрастом этноса, его уровнем прогрессивного развития, воистину огромны, часто даже перекрывают индивидуальные этнические особенности. Одной из целей данной работы является попытка показать, что этносы не столько отличаются определенным комплексом уникальных черт, сколько именно разными уровнями исторического развития. Индивидуализм, коллективизм и полная индивидуальная безынициативность, агрессивность, миролюбие и пассивность, жизненная ориентация на прошлое, ориентация на будущее и ориентация на настоящее – все это, наряду с некоторыми другими этническими особенностями, черты, характеризующие возраст этноса, а не его индивидуальные особенности. Если сравнить этнические портреты людей прошлых веков и их современных потомков, то разница будет просто впечатляющая. И разница эта далеко не ограничивается уровнем культурного развития и образованности.
В наше время, в сфере научного познания, все еще сильны идеи редукционизма и позитивизма. Кажется, что достаточно только просчитать первичные физические начала – и реальность сама откроется во всей красе своей согласованности и целесообразности. Именно в доминировании утилитарно-позитивисткой науки можно предположить причину того, что мы «все больше знаем о деревьях и все меньше о лесе». Экспериментальная наука, конечно же, жизненно необходима, и ныне никто не может считать себя истинным ученым, не выходя из диогеновской бочки и не прослыв при этом схоластом. Но часто мы ударяемся в другую крайность. Ученый подчас отождествляется с лаборантом-ремесленником, в действительности эксперимент – это хоть и необходимая, но и далеко не полная часть научного знания. Эксперимент хорош для ответов на поставленные вопросы, а вот вопросов как раз и не хватает зажатому в узкие рамки экспериментатору. Основная задача этой работы и заключается в том, чтобы поднять множество вопросов, и хоть в ней даются некоторые приблизительные ответы, не это в ней главное. Все поднятые здесь вопросы требуют большой работы в конкретных областях научного знания. И многое из того, что читатель здесь найдет, является авторским взглядом на данную проблему, иногда небесспорным и далеким от общепринятого. Многие выводы настраивают на оптимистический лад, но чаще факты предстают в довольно тревожном свете, однако человек – единственный активный творец своего будущего на Земле и может многое изменить. Надежда всегда остается.
Шматина глины не знатней орангутанга.
Алексей Толстой
Это – тот закон природы, который мы не замечаем: интеллектуальная многосторонность – компенсация за изменения, опасности и проблемы. Животное, достигшее гармонии с окружающей средой, – совершенный механизм. Природа никогда не прибегает к интеллекту, пока тело и инстинкты не станут бесполезными. Где нет изменений или необходимости изменений – там нет и разума.
Г. Уэллс. Машина времени
Часть 1
Происхождение и эволюция человека.
Восхождение к вершине?
Проблема антропогенеза (происхождение человека) и теория биогенеза (происхождение жизни) являются, пожалуй, самыми сложными проблемами биологического эволюционизма. Особенно сложно решение проблемы начала. Как считал Аристотель, начало больше половины целого. Если данные аспекты эволюции рассматривать, основываясь исключительно на теории биологической эволюции, то тогда этот путь неизбежно будет тупиковым. Теория биологической эволюции, в принципе, не способна в отрыве от смежных наук раскрыть механизмы первичного формирования жизни и человека. Теория Ч.Дарвина распространяется только на биологические системы, и любые спекуляции, связанные с расширительным толкованием этой теории, обречены на провал. Жизнь не могла возникнуть по дарвиновским законам, поскольку механизмы самоорганизации жизни, основанные на «наследственной изменчивости» и «естественном отборе», начали действовать только уже после возникновения жизни. Точно так же и эволюция человека только на начальных этапах могла проходить по дарвиновским законам. Когда человек начал осознавать свои поступки, а главное – оценивать их, развитие приобрело качественно более высокие темпы, поскольку приобрело гораздо более осмысленный и целенаправленный характер. Биологическая эволюция подобна слепому старцу в лабиринте. Человек же с переходом на качественно новый уровень экстраполирующего поведения как бы получил нить Ариадны, которая, конечно, не спасает полностью от ошибок, но дает возможность их предвидеть или, во всяком случае, не повторять. В любом случае, это уже вне компетенции теории биологической эволюции.
В последнее время осуществлен настоящий прорыв в раскрытии проблем антропогенеза. Найдено пресловутое «промежуточное звено», даже целый ряд последовательных промежуточных звеньев. Реконструирована практически вся эволюционная линия гоминид. Все это, конечно, прекрасно, но в современных исследованиях часто не хватает главного – анализа закономерностей антропогенеза. Как правило, в публикациях ограничиваются подробным разбором полученных находок, а их анализ часто сводится к поиску последовательных переходных признаков от обезьяньих предков к человеку. Сейчас уже редко можно встретить глубокий анализ возможных путей эволюции, как это делалось еще Дарвином и его последователями. В данном разделе будет проведен анализ некоторых, наиболее спорных вопросов антропогенеза и осуществлена попытка вернуть незаслуженно утраченный интерес ко многим забытым нерешенным теоретическим вопросам.
1.1. Антропогенез
В настоящее время практически общепринятой является следующая модель антропогенеза: Orrorin tugenensis – Ardipithecus ramidus – Australopithecus afarensis – Homo habilis – Homo erectus – Homo antecessor – Homo sapiens – Homo sapiens sapiens [1]. Австралопитек – это еще типичная обезьяна, правда, стоящая уже гораздо ближе к человеку, чем даже шимпанзе [2]. Homo habilis (человек умелый) – это уже человек, об этом красноречиво говорят многочисленные находки грубо обработанных каменных орудий рядом с их останками. Возможно также, что он находился на начальной стадии овладения речью, поскольку имел на внутренней поверхности черепа зачаточный выступ в поле Брока (отдел мозга, связанный с речью у современного человека). В 70-е годы у Homo habilis появился конкурент на право считаться первым человеком Homo rudolfensis (букв.: человек Рудольфа). По уровню организации он довольно близок к «хабилису», но более общепринятым древнейшим человеком все же остается именно «хабилис».
Homo erectus [3] (человек выпрямленный) не чем особенным не выделялся, но стоял уже ближе филогенетически к современному человеку, ему уже было доступно использование огня и трансцендентальное мышление, о чем свидетельствуют многочисленные кострища и захоронения. Несмотря на развитые выступы в поле Брока, его речевые способности все еще были далеко не совершенны, о чем свидетельствует слабо развитый спинномозговой канал, значит, вряд ли спиной мозг был достаточно развит для иннервации речевого аппарата. Адаптивно он был гораздо пластичнее своих современников, что и позволило ему начать свое победоносное расселение по всему свету.
Конечно же, эта схема антропогенеза признается хоть большинством, но еще не всеми антропологами. До сих пор еще иногда встречаются такие названия гоминид, как питекантроп (Pithecanthropus erectus), синантроп (Sinanthropus pekinensis) и гейдельбергский человек (Homo heidelbergensis). Изначально поисками «промежуточного звена» занимались все кому не лень, и каждый свою новую находку называл уникальным именем и объявлял тем самым промежуточным звеном. Как, например молодой преподаватель анатомии Эжен Дюбуа, назвавший свою находку Pithecanthropus erectus. Сейчас раскопки ведутся только профессионалами, к тому же уже накопилось достаточно материала, чтобы не просто давать произвольно каждой находке свое уникальное название, а классифицировать их в зависимости от степени таксономического родства. Например, уже ясно, что питекантроп и синантроп слишком близки между собой, чтобы быть отнесенными к разным родам. К тому же никаким промежуточным звеном они являться не могут, поскольку уже имеют все основные черты, присущие человеку, и потому сейчас все указанные находки отнесены не только к одному роду Homo, но и к одному виду Homo erectus. Впрочем, в постсоветской антропологии питекантроп, так же как и архантроп, – это только синоним Homo erectus и вероятно некоторых других, если таковые будут обнаружены, стоящих на том же эволюционном уровне гоминид [1]. Все же стоит признать, что питекантроп, обнаруженный Дюбуа, является наиболее архаичной из известных форм Homo erectus. Видимо, формы, близкие к прогрессивным Homo erectus, подобные той, которую испанские исследователи окрестили как Homo antecessor (человек предшествующий), и были непосредственными предшественниками неандертальца и, возможно, предковых архаичных форм современного человека. По поводу гейдельбергского человека тем более нет оснований выделять его в отдельный вид (как известно, найдена была только нижняя челюсть). Во всяком случае Д. Джохансон, нашедший знаменитую самку австралопитека «Люси», считает что это тот же Homo erectus [2, с.30]. По поводу Homo antecessor также сложно сказать однозначно, самостоятельный это вид либо прогрессивная форма Homo erectus.
Также многие антропологи не могут удержаться от соблазна занести в непосредственные предки современного человека неандертальца (Homo neanderthalensis). А соблазн здесь в том, что это бы закрыло еще один важный пробел в филогенетической линии антропогенеза, он заполняет пустующее пространство на эволюционном древе между примитивными людьми и современным человеком. Что вряд ли верно, и дело даже не в том, что эти близкие виды сосуществовали в одно время, как считают некоторые, иногда предки даже переживают своих потомков. Ведь оттого, что дед живет в одно время со своим внуком, никто не сомневается, что он его предок. Дело в том, что неандерталец был слишком специализирован и имел целый ряд признаков, которые трудно сопоставить с возможностью их модификации к тому виду, который присущ современному человеку. Впрочем, уже найдено множество других архаичных неспециализированных форм Homo sapiens, которые и могли заполнить тот пробел.
Некоторые антропологи склоны также причислять неандертальца к виду Homo sapiens в качестве подвида Homo sapiens neanderthalensis. К такому выводу они пришли на основании многочисленных находок, подтверждающих метизацию неандертальцев и кроманьонцев. Ведь это свидетельствует об отсутствии главного критерия видовой обособленности этих форм гоминид, а именно генетической изоляции. Впрочем, это противоречие не так уж и непримиримо, поскольку критерии подвидов и видов весьма туманны и расплывчаты. Однако в 1997 году был проведен анализ выделенной из останков неандертальца митохондриальной ДНК, который показал, что у нас есть общий с неандертальцами предок, живший около 600 тыс. лет назад. Основываясь на данных анализа ДНК и сведениях об испанских представителях Homo antecessor, можно сделать более точную классификацию, согласно которой неандертальский человек был отдельным видом [3].
Следует особо подчеркнуть, что все указанные разногласия не принципиальны. В целом, реконструкция антропогенеза, хоть и далека до завершения, но уже вполне очевидна, причем настолько, что даже большинство креационистов ее не оспаривают, сохраняя только последний плацдарм для критики, а именно формирование сознания. А это действительно загадка, которая в рамках биологической науки принципиально не разрешима. Вот что писал по данному поводу отец Александр Мень: «…проблемой палеоантропологии стали заниматься многие христианские ученые. Среди них первое место занимают Анри Брейль, Гуго Обермайер и Пьер Тейяр де Шарден. Церковная точка зрения на этот вопрос нашла свое отражение в энциклике папы Пия XII «Humani generis» – «О человеческом роде», в которой говорится, что Церковь рекомендует изучать эволюционную теорию «в той мере, в какой исследования говорят о происхождении человеческого тела из уже существовавшей живой материи, но придерживаться того, что души непосредственно созданы Богом» (об этой энциклике см.: «Antonianum», январь – апрель 1958)» [4].
Прежде чем перейти к более детальному рассмотрению основных проблем антропогенеза, хотелось бы остановиться на одном особом механизме устойчивости и одновременно самоорганизации, который можно охарактеризовать как эффект защиты от популяционных мутаций. Мутации, как известно, чаще производят нежелательный эффект. К тому же, чем вид совершеннее, тем выше в нем межклеточная интеграция и тем более опасный характер принимают практически любые мутации. Поэтому высшие многоклеточные вырабатывают целый комплекс мер, защищающих их геном от мутагенного воздействия, либо даже частично восстанавливающие уже поврежденные гены. А почему бы тогда не предположить, что и на популяционном уровне действуют подобные механизмы защиты от мутаций?
Биологи часто задаются вопросом, каким образом единичные благоприятные мутации не «тонут» в океане «нормальных» генов? Ведь для того чтобы этот ген имел селективное преимущество, он должен, по крайней мере, проявиться фенотипически, а для этого рецессивный ген-мутант (а мутации практически всегда рецессивны) должен найти такой же ген в свою аллель. До разделения жизни на два пола эта проблема не стояла столь остро, поскольку все мутации в гомозиготном геноме проявляются фенотипически. Потом частично эта проблема разрешалась в результате генетической изоляции малых групп (дрейфа генов). Но поскольку адаптации носят не абсолютный, а относительный характер, встает уже прямо противоположная проблема сохранения достигнутых различий. Ведь пока носители новых признаков не распространятся достаточно широко, у них чрезвычайно мало шансов не быть ассимилированными доминирующими консервативными формами. Такая опасность сохраняется вплоть до того момента, когда указанные различия не достигнут уровня межвидовых, и тогда накопленные различия уже не будут сокращаться под влиянием миграционного пресса. Кто знает, сколько действительно полезных завоеваний биологической эволюции были потеряны генетической ассимиляцией.
Однако эволюция не стоит на месте, и высшие животные начали использовать более совершенный механизм защиты от миграционного пресса – поведенческий (этологическая форма симпатрической изоляции). В животном мире часто наблюдаются случаи казалось бы необъяснимой агрессии к умеренно похожим. Почему вороны заклевывают своего сородича альбиноса, тогда как к белым же голубям не проявляют ни малейшей агрессивности? В этом как раз и проявляется действие эффекта защиты от популяционных мутаций. Ведь белые голуби, в отличие от белой вороны, не несут никакой угрозы для генетической чистоты вороньей популяции. Несмотря на то, что данное явление обусловлено мутациями на генном уровне, единицей, участвующей в данных процессах, уже служит не ген, а особь, носитель этого гена или группы генов (в случае множественной закладки данного признака).
Может показаться, что такое явление должно полностью исключить дальнейшее действие адаптивной эволюции, поскольку любые аномалии пресекаются уже на корню. Однако напротив, несчастные и гонимые «гадкие утята» часто вынуждены покидать собственную популяцию и организовывать собственные сообщества («принцип основателя«). Таким образом, механизм защиты от популяционных мутаций может усилить как положительную, так и отрицательную обратную связь, способствовать как устойчивости, так и дивергенции. Появление данного механизма значительно ускорило биологическую эволюцию, поскольку, с одной стороны ослабило ассимилирующее влияние миграционного пресса, с другой – создало новые возможности для адаптивной радиации (дивергенции).
Особенно значимую роль данный эволюционный фактор играл в становлении человека. В пользу такого предположения красноречиво говорит тот факт, что, вопреки общей тенденции к увеличению биоразнообразия в результате адаптивной радиации, в антропогенезе, напротив, биоразнообразие неуклонно сокращалось, поскольку более прогрессивные антропоиды целенаправленно истребляли всех умеренно похожих. Например, уже практически доказано, что такие массивные австралопитеки, как Australopithecus robustus, были прекрасно адаптированы к условиям своего существования и вполне могли дожить до наших дней, если бы не ненависть к двойнику его более совершенного современника Homo habilis, который истребил именно его, не тронув другие, менее на него похожие виды [5]. То же можно сказать и об австралопитеке, истребленном кроманьонцем. Можно, конечно, предложить такое объяснение, что, согласно известному «принципу Гаузе«, одна экологическая ниша не может вместить более одного вида, и именно поэтому такая конкуренция явилась следствием столь непримиримой борьбы. Однако это объяснение, хоть и отчасти верное, но не объясняет, во-первых, почему тогда непримиримость выше именно к близким видам и подвидам, а не к таким же представителям своего вида, с которыми, понятно, конкуренция еще выше? И, во-вторых, почему тогда межвидовая дивергенция не привела к разделению ниш? Ведь грацильные и массивные австралопитеки прекрасно продемонстрировали такую возможность. По-видимому, даже если экологические ниши и разделялись, то более примитивных двойников это все равно не спасало, поскольку главный источник непримиримости – это не конкуренция за ресурсы, а инстинктивное противодействие возможной генетической ассимиляции, т.е. именно действие «эффекта защиты от популяционных мутаций». Эволюция гоминид изначально представляла не единый ствол, а ветвистый куст, в котором как старательный садовник тщательно обрубали все «лишние» ветви наши предки, представляющие генеральную и наиболее прогрессивную гоминидную линию.
М. Л. Бутовская пишет: «Этологический анализ дает представление о предпочтительности сексуального выбора у приматов и человека. Оказывается, максимально привлекательны партнеры, обладающие чертами сходства с теми, в чьем окружении они находились в раннем детстве (т.е. с родственниками первого порядка)» [6]. Можно предположить, что именно в этом и заключены биологические предпосылки действия «эффекта защиты от популяционных мутаций» на человека. Брачные предпочтения партнеров близкого антропологического типа способствовали развитию и упрочению этнической и расовой дифференциации человека. А последнее, в свою очередь, было связано с необходимостью сохранения приобретенных полезных адаптивных особенностей, которые в противном случае при ассимиляции были бы попросту потеряны.
Далее будут продемонстрированы вероятные модели эволюционного формирования некоторых признаков человека, появление которых без участия вышеописанного механизма объяснить чрезвычайно сложно.
Наиболее сложным вопросом антропогенеза является период между формированием Australopithecus afarensis (возраст около 4 млн лет) и Homo habilis (возраст около 2 млн лет). Дело в том, что австралопитек обезьяна, хоть и весьма близкая морфологически к первым людям, но все-таки обезьяна, Homo habilis – это уже человек, хоть и очень примитивный, но человек. Основные споры вызывает этот период в 2 млн лет. Достаточен ли он для того, чтобы произошли столь разительные преобразования, и почему не найдены промежуточные формы между этими видами? Несмотря на то, что морфологические различия между этими видами весьма незначительны, по уровню социальной организации между ними лежит глубокая пропасть. По всей видимости, единственным, явно бросающимся в глаза морфологическим отличием первого человека, от австралопитековых, это вероятное отсутствие развитого волосяного покрова на теле, но Homo habilis уже мог изготовлять каменные орудия так называемой галечной олдувайской культуры и находился на начальной стадии социализации.
Очевидно, что эволюционные преобразования в этот период имели нелинейный характер, поскольку постепенно, по мере формирования сознания, все большую роль начинали играть социальные факторы эволюционного процесса, которые, действуя вкупе с биологическими факторами, как мы увидим ниже, способны значительно ускорить не только социальную, но и биологическую эволюцию. Самое поразительное, что ископаемые останки переходных форм между австралопитековыми обезьянами и первыми людьми уже найдены, это образцы KNM-ER 1470 и KNM-ER 1813 [7, с. 318–319]. Почему-то эти сенсационные находки прошли незамеченными за пределами узкого круга специалистов. Конечно, кому-то две находки могут показаться недостаточными, но это только начало. Дарвин указывал по этому поводу, что палеонтологические находки похожи на редкие сохранившиеся листки потерянной книги, в которых, к тому же, большую часть слов невозможно прочесть [8, с. 237]. В 1999 году обнаружен практически полностью сохранившийся череп – еще одна находка, претендующая на недостающее звено. Его назвали Kenyanthropus platyops, т. е. плосколицым человеком из Кении. Он совмещает примитивные черты австралопитековых с прогрессивными чертами представителей рода Homo. Едва ли, однако, он был непосредственным предком Homo habilis, вероятнее, являлся боковой ветвью одной из переходных форм.
Человеческое самолюбие заставляет нас сильно преувеличивать разницу между человеком и животными. Вместе с тем биологические отличия человека от человекообразных обезьян столь незначительны, что многие ученые даже посчитали нецелесообразным выделять его в отдельное семейство [9]. К этому можно только добавить, что геномы шимпанзе и человека схожи на 98,9% и более того, «новейшие молекулярно-биологические данные свидетельствуют также о более выраженных различиях между орангутангом, с одной стороны, и гориллой и шимпанзе – с другой, по сравнению с различиями между двумя последними формами и человеком» [10, с.70]. Американский генетик М. Гудмен вообще причислил шимпанзе к роду Homo, т.е. фактически к людям, что вряд ли верно. Дело в том, что он пришел к такому выводу именно на основании генетического сравнительного анализа. При этом анализировались только так называемые структурные гены, тогда как не меньшую роль в морфогенезе играет регуляторная система генов, изучение которой еще только начинается [4]. И все же очевидна весьма близкая родственная связь шимпанзе и человека, достаточно упомянуть о том, что французский врач и исследователь Труазье, спасая человека, перелил ему кровь шимпанзе с совместимой группой крови, результат был такой, как будто это была обычная человеческая кровь.
Мы горды в своей уверенности, что человек является вершиной биологической эволюции, значительно возвышающейся над всеми живыми тварями. Однако, в биологическом смысле человек далеко не лучшее произведение природы. «Гоминид зачастую представляют как верхний слой глазури на филогенетическом торте. Такое допущение, однако, ошибочно» [7, с.276]. Мы теряем значительно больше влаги с мочой и потом, чем рептилии и птицы [5] и потому более зависимы от водной среды, следовательно, филогенетически в чем-то стоим ближе к нашим земноводным предкам. У птиц нет потовых желез, вместе с тем они обладают гораздо более надежными механизмами терморегуляции. При достаточном количестве пищи, даже южные птицы могут сносно себя чувствовать в северных широтах, а северные в южных. У птиц совершеннее устроен глаз, благодаря двойной аккомодации, когда фокусировка изображения происходит в результате как изменения кривизны хрусталика, так и изменения фокусного расстояния от хрусталика до сетчатки. Правда, у птиц практически не развито обоняние, но человек также обладает в сравнении со многими млекопитающими весьма посредственными органами обоняния и слуха. По скорости, ловкости и силе ему трудно соперничать с большинством других, сходных по размерам животных, и только мозг, является, безусловно, человеческим завоеванием. По всей видимости, эволюция мозга происходила особенно интенсивно, как компенсация прочих морфологических несовершенств.
Казалось бы, эволюция должна идти в направлении все большей цефализации и повышения интеллекта, дабы погасить инадаптивность многих других морфофизиологических признаков. Но все усложняется тем, что эволюционную значимость фактор выживания имеет лишь в том случае, если выжившая особь еще и оставила жизнеспособное потомство. Любой полезный признак только тогда будет иметь эволюционный успех, если он будет способствовать успешному размножению. Если, допустим, какая-либо особь приобрела способность к сверхустойчивости, благодаря полезной мутации, то в этом не будет никакого эволюционного смысла без передачи этой полезной мутации потомству. Казалось бы, действительно, более смышленые гоминиды имели больше шансов дожить до репродуктивного возраста, но какой в этом эволюционный смысл, если один глупый, но сильный самец, в конечном счете, становился единственным полигамным обладателем всех самок? Механизм полового отбора полигамных сообществ был эффективным инструментом эволюции в животном мире, но в становлении человека он мог сыграть отрицательную роль. Подобно тому, как половой отбор у ныне вымершего ирландского оленя сыграл злую шутку над естественным отбором. Самцы с более развитыми рогами имели преимущество в турнирных схватках за обладание самками, а значит, имели селективное преимущество в продолжении рода, в результате развития гипертрофированных рогов снизилась их адаптивность и они вымерли.
В эволюции гоминид, также половой отбор мог препятствовать естественному отбору в направлении все большей цефализации. Можно предположить, что, в свою очередь, более смышленые самки имели больше шансов вырастить свое потомство, поэтому, вероятно, естественный отбор более смышленых особей первоначально шел только по женской линии. Впрочем, не исключено, что уже первые гоминиды, подобно шимпанзе, частично отошли от полигамности, перейдя к полигамии неполной, структурированной по возрастным группам. Дополнительным фактором эволюции мозга служил групповой отбор, который приводил к селективному выживанию стай приматов с более развитой социальной инфраструктурой. Групповому отбору способствовало то, что антропоиды жили небольшими группами. Данному процессу могли способствовать внутренние механизмы отрицательной обратной связи, проявляющиеся в том, что из стай животных часто изгоняются все непохожие на большинство «белые вороны». Такими могли оказаться менее волосатые и менее сильные, но более интеллектуальные особи, которые основывали собственные сообщества («принцип основателя»). Возможно, первичная эволюция человека была связана с переходом к моногамии, тогда данная проблема снимается сама собой.
Росту коммуникативных и интеллектуальных способностей гоминид мог способствовать половой отбор со стороны самок, которые предпочитали партнеров, способных к более изощренным способам ухаживания [11]. Но тогда мозг мужчин должен был быть значительно лучше развит, в действительности его мозг лишь на 8% крупнее. Значит, либо это направление полового отбора не играло значимой роли, либо размер мозга у мужчин и женщин коррелятивно связан посредством соматических (неполовых) хромосом.
После того как наши предки научились использовать орудия для атаки, уже более смышленые самцы могли выигрывать борьбу за обладание самками над более сильными самцами. Эволюция интеллекта ускорилась, но все еще протекала довольно медленно, поскольку преимущества интеллекта над силой в первобытной стае человекообразных приматов далеко не всегда однозначны. Может быть, этим объясняются длительные периоды морфологического стазиса как австралопитековых, так и Homo habilis? И вероятно, одним из факторов, резко ускоривших прогрессивную эволюцию гоминид, был переход к моногамности. Причины же перехода к моногамности достаточно просты и не вызывают особых споров. Очевидно, что с повышением времени выхаживания потомства основная нагрузка по обеспечению пищей легла на самца, а поскольку выхаживание собственного потомства наиболее способствует закреплению собственной генетической линии, а выкормить сразу несколько самок с потомством один самец не в состоянии, постольку это стимулировало переход к моногамности. Например, у выводковых птиц, у которых на свет появляются уже сравнительно самостоятельные птенцы, преобладает полигамность, у гнездовых же, с их еще не оперившимися и к тому же пойкилотермными [6] птенцами, полигамность даже не отмечена.
Интересно отметить один любопытный факт. Постоянную основу стада шимпанзе образуют самцы, тогда как самки постоянно мигрируют из одного стада в другое (патрилокальность). Все это происходит с целью снижения инбридинга. В результате потомство таких мигрантов становясь более гетерозиготным, а значит, и более жизнеспособным, будет иметь селективное преимущество. Следовательно, нет ничего удивительного в таком следствии действия естественного отбора. Особенно примечательно, что в таком случае становится более вероятным развитие сотрудничества между самцами, в сравнении с самками, поскольку самцы, будучи друг другу родственниками, помогая друг другу, помогают тем самым развитию собственной генетической линии. А в продолжении собственной генетической линии и заключается, по существу, единственный детерминистский смысл естественного отбора [12, с.203–205]. Нетрудно предположить, что у предков первых людей процессы социализации первоначально шли по той же модели. Может, пресловутая, «мужская дружба» имеет гораздо более древние и глубокие корни? Если же предположить, что основу стада гоминид составляли, напротив, самки, как у павианов (матрилокальность), тогда основной груз социализации должны были тянуть именно они. В этом случае социализация могла бы проходить даже быстрее, поскольку в воспитании потомства именно самки принимают основное участие. Но все же более вероятна первая модель, поскольку гоминиды и шимпанзе имели общих предков. Социализация могла идти в таком случае по модели родственного альтруизма (К-отбор Гамильтона), но не меньшую роль, а у самок даже большую мог играть и реципрокный (взаимный) альтруизм Трайверса.
Социализация приматов первоначально протекала чрезвычайно медленно. Сколько времени требуется, чтобы воспитать хорошего физика и сколько времени нужно было, чтобы те же знания, которые он приобрел за несколько лет, были получены человечеством? В процессах первичной социализации все еще сложнее, поскольку накопление знаний должно было протекать одновременно с эволюцией способности к такому накоплению. Налицо необходимые условия для нелинейности развития, когда результат и процесс оказывают взаимостимулирующее влияние друг на друга. После прохождения критического бифуркационного порога, при достижении объема мозга порядка 750 см3, темпы социализации экспоненциально возросли. Конечно, дело не только в объеме мозга, тут целый комплекс необходимых преобразований, которые протекали параллельно. Таким образом, социализация способствовала дальнейшему росту социализации, что и обусловило нелинейный, взрывной характер социальной революции. По-видимому, и многие другие адаптации гоминид имели нелинейный, «автокаталитический» характер развития. Например, Р. Фоули также предполагает нелинейный характер перехода на мясное питание: «Как только мясо превратилось в потенциальный источник пищи, под влиянием отбора зависимость от него гоминид начала увеличиваться, что привело к еще большему усилению первоначальной адаптации («автокатализ»)» [7, с.275].
После первичного формирования сознания эволюция мозга экспоненциально ускорилась, поскольку к биологическим эволюционным факторам добавились пока еще весьма слабые, но все более набирающие оборот социальные факторы эволюции. Особенно наглядно данную закономерность можно проследить по степени развития головного мозга [7]: ~500 см3 (A.afarensis), через 2 млн лет ~700 см3 (H.habilis), через 400 тыс. лет ~1000 см3 (H.erectus), далее, всего за 200 тыс. лет ~1500 см3 (Homo neanderthalensis), но уже через 50 тыс. лет только до ~1600 см3 (Homo sapiens sapiens). Здесь хорошо видно, что за последние 50 тыс. лет возрастание объема мозга резко замедлилось, пока не остановилось вовсе. Вероятно, это связано с тем, что именно при таких максимальных размерах головного мозга установилось эволюционное равновесие между большей вероятностью гибели детей с крупным черепом при родах и большей вероятностью людей с более высоким уровнем цефализации на эволюционный успех. Конечно, если бы факторы биологической эволюции еще играли бы значимую роль, природа нашла бы выход для возможности дальнейшего роста объемов мозга, но человек уже начал вырываться из оков естественного отбора. Тому свидетельствуют находки останков покалеченных людей, доживших до преклонного возраста в позднемустьерской культуре. Человек уже тогда начал нарушать главный закон дарвинизма, согласно которому «выживает наиболее приспособленный».
Несколько озадачивает тот факт, что уровень развития мозга человека значительно превышает необходимый, что противоречит принципу симморфоза К. Тейлора и Э. Вейбеля, принципу, согласно которому возможности органов живых организмов не должны превышать необходимый при максимальных нагрузках уровень. Но во времена биологической фазы антропогенеза, когда эффективность использования мозговых возможностей была значительно ниже, повышать интеллектуальные способности можно было главным образом за счет все большей цефализации. Если современный человек, перерабатывая с раннего детства громадный объем информации, невольно тренирует память, то для запоминания аналогичного объема информации древнему человеку требовались уже значительно большие возможности мозга. Можно предложить и такое, на первый взгляд парадоксальное, объяснение превышения необходимого минимума объема мозга. У тех гоминид, у которых головной мозг был крупнее, повышалась вероятность смещения времени родов на все более ранние сроки, поскольку это селективно повышало вероятность выживания при родах как матери, так и ребенка. Рождение же детенышей на более ранних сроках, безусловно, один из важнейших факторов, способствующих социализации. Поскольку мать в результате вынуждена уделять больше времени потомству и поскольку это также способствует селективному преимуществу более смышленых самок, ведь для выхаживания более беспомощного потомства требуется и более высокая нервная организация. К тому же это стимулирует переход к моногамии. Может, первоначально только это следствие цефализации имело эволюционный смысл, а непосредственно размеры головного мозга лишь потом могли оказаться весьма кстати? Такое явление, когда признаки, развивающиеся по одной причине, вдруг случайно оказывались пригодными совсем для другой цели, довольно распространено и известно как преадаптация. В чем-то близкую этой гипотезу, согласно которой первоначально цефализация играла лишь пассивную роль в эволюции, выдвигал Р.Д. Мартин [13, с.93]. Таким образом, если предположить, что повышение размеров черепа первоначально играло лишь пассивную роль в процессах сокращения сроков вынашивания плода, тогда не будет ничего странного в превышении необходимого минимума объемов мозга. Последнее обстоятельство оказалось весьма кстати в дальнейшей, уже преимущественно социальной, эволюции человека.
Гипотеза, согласно которой человек приобрел современный вид благодаря сокращению сроков вынашивания плода, известна как теория фетализации (ретардации) Болька. Возникшая в результате дополнительная нагрузка на человека, заключающаяся в увеличении необходимости заботы о потомстве, привела к дальнейшему совершенствованию интеллекта. В пользу теории фетализации говорит тот факт, что «среди всех незрелорождающихся форм человек отличается наибольшей степенью беспомощности. Если сравнить степень зрелости плода человека и приматов, то оказывается, что беременность у человека должна была бы продолжаться 21 месяц» [1, с.110–111]. Фетализация вряд ли имела непосредственное адаптивное значение, первоначально фетализация могла играть скорее отрицательную роль, и без сомнения, гоминидная ветвь стала бы тупиковой, если бы не многие другие эволюционные последствия фетализации преадаптивно не оказались бы весьма кстати. Самым важным, из которых можно считать деспециализацию и связанное с ней возрастание пластичности, поскольку неотения [8] всегда приводит к вторичному упрощению организации, как бы частично возвращая эволюционный процесс на более низкий уровень [14]. Чем раньше ребенок соприкасается с внешним миром, когда его мозг наиболее пластичен, тем проще проходит первичная социализация ребенка. Неспециализированность не только позволила человеку распространиться во все возможные среды обитания, но и значительно расширила филогенетический ресурс гоминидной ветви.
Процессами фетализации можно объяснить и потерю волосяного покрова предками современного человека. Такое явление, как фетализация, давно известно в животном мире в форме неотении. Впрочем, вряд ли неотения была первичным фактором, способствующим возрастанию необходимости заботы о потомстве, скорее это имело вторичный характер, а именно увеличение заботы о потомстве привело к возрастанию частоты рождаемости более беспомощных детей [9]. Начало прогрессивной гоминидной ветви положили именно те антропоиды, которые уделяли больше внимания выхаживанию собственного потомства. Человек и здесь далеко не уникален, голыми рождаются птенцы гнездовых птиц и детеныши многих норных и сумчатых млекопитающих. Данное явление связано с более комфортными условиями жизни на первых этапах постэмбрионального развития. С неотенией можно связать появление множества инфантильных черт взрослого человека, свойственных только детенышам и даже эмбрионам человекообразных обезьян. К инфантильным признакам человека можно отнести характерный изгиб оси черепа, особое расположение большого затылочного отверстия, уплощение и небольшой размер лицевого отдела по сравнению с мозговым [10, с.19]. С фетализацией, возможно, связана и потеря волосяного покрова. В пользу данного предположения говорит тот факт, что, например, у плода шимпанзе, на определенной стадии эмбрионального развития, имеется густая шапка волос на голове, тогда как остальная часть поверхности тела лишена волосяного покрова [15, c.301]. И все же теория фетализации не является общепринятой, поскольку для человека характерны не только замедление (ретардация), но и по ряду признаков и ускорение роста и развития по сравнению с обезьянами [16].
Какими бы ни были механизмы возникновения безволосых форм прачеловека, без закрепления естественным отбором этим признакам не суждено было бы расшириться, а для этого данный признак должен был иметь определенное адаптивное преимущество. После того как человек начал одеваться в звериные шкуры, надобность в густой шерсти отпала, однако, если не следовать «ламаркизму», это недостаточная причина. Казалось бы, если человек защищен от холода, тогда безволосые люди будут иметь адаптивное преимущество, т.к. не нуждаются в дополнительном производстве белка. Впрочем, столь ничтожное преимущество может легко компенсироваться большей независимостью от дополнительного обогрева более густоволосых людей, ведь даже в тропиках по ночам люди часто страдают от холода и сырости. Ведь не случайно человекообразные приматы, живущие в южных широтах, сохранили довольно хорошо развитый волосяной покров. Один из соавторов «теории естественного отбора» Альфред Уоллес был настолько озадачен этим фактом, что вообще начал сомневаться в возможности происхождения человека путем «естественного отбора». Вероятно, здесь определенную роль сыграл «половой отбор». Мужчинам казались более привлекательными женщины с менее развитым волосяным покровом, а так как этот ген наследуется и мужчинами, очень скоро он вытеснил ген волосатости [10]. Эти процессы, возможно, происходили и раньше, но до того, как наши предки научились прикрывать себя шкурами, им не суждено было закрепиться отбором, поскольку тогда еще менее волосатые гоминиды имели больше шансов погибнуть от холода. Данную гипотезу потери волосяного покрова в результате действия «полового отбора» выдвинул еще Ч. Дарвин во II главе работы «Происхождение человека и половой отбор» [17]. Он считал, что половой отбор имеет две основные формы. Первая включает в себя соревнование самец-самец за обладание самкой, а вторая – выбор самкой полового партнера по определенным характеристикам. Но только для человека характерна еще и третья форма полового отбора в направлении от мужчины к женщине. Поэтому у животных самки всегда внешне более невзрачны. Исключение составляют лишь очень немногие виды животных, у которых основная нагрузка по выхаживанию потомства ложится на самцов.
Вероятно, помимо полового отбора, здесь сыграл определенную роль эффект защиты от популяционных мутаций, что проявлялось в резком повышении агрессивности к более волосатым людям. Ведь известно, что в примитивных племенах даже отличная от собственной боевая раскраска способна вызвать агрессивное поведение. Здесь проявляются естественные механизмы сохранения чистоты этноса или расы (отрицательная обратная связь). Первоначально под действие эффекта защиты от популяционных мутаций попадали особи с менее ярко выраженным волосяным покровом. В результате группы гоминид со слаборазвитой шерсткой уходили от агрессивно настроенных соплеменников по причине их непохожести и организовывали собственные родовые сообщества. В этих новых сообществах симпатии все больше склонялись к меньшей волосатости тела, поэтому в результате «полового отбора» здесь эволюция в этом направлении проходила особенно интенсивно. В этих сообществах была особенно выражена созидательная роль хаоса, возросла потребность в теплом крове, одежде, поддержании огня. Такой вызов антропогенезу стимулировал социогенез, поскольку потребности, по нашему мнению, являются основным селектором прогрессивного развития в эволюции социума. Вероятно, потеря волосяного покрова имела столь же важное значение в эволюции человека, как прямохождение, развитие кистей рук с отстоящим большим пальцем и переход к всеядности.
всей видимости, именно умеренная похожесть на человека сыграла роковую роль для неандертальца, истребленного людьми. Правда, в последнее время появились находки, подтверждающие метизацию неандертальца и архаичных форм Homo sapiens с кроманьонцем, что якобы позволяет склоняться к тому мнению, что неандерталец скорее был ассимилирован кроманьонцем. Последнее все же маловероятно, у человека современного типа, каким являлся и кроманьонец, «эффект защиты от популяционных мутаций» работал уже значительно успешнее, поскольку человек уже осознанно вычленял всех умеренно непохожих. Это значит, что с агрессивным поведением сталкивались не только неандертальцы, но и все метисы и другие, напоминающие их внешностью и повадками. Все это позволило снизить миграционный пресс, а значит, еще более ускорило дальнейшую социализацию. Поэтому можно усомниться в возможности полифилетического происхождения современного человека (от нескольких биологически близких видов или подвидов). Очевидно, что кроманьонец имел значительные преимущества в борьбе за место под солнцем над своими более примитивными современниками. Поэтому если метисные формы, хранящие в себе гены неандертальцев и архаичных сапиенсов и могли сохраниться, то только в глухих, изолированных джунглях. Укрыться от преследований кроманьонцем могли только весьма малочисленные группы антропоидов. Представляется весьма маловероятным, что столь малые группы наших более примитивных родичей могли просуществовать достаточно долго и не выродиться в результате гомозиготации, неизбежной в условиях длительной изоляции малых групп. Дополнительным аргументом в пользу монофилетической модели антропогенеза служит тот факт, что кроманьонец был весьма биологически однороден и даже не был дифференцирован на расы. Полифилетические модели антропогенеза не только маловероятны, но и опасны, поскольку создают благоприятную почву для расистских спекуляций. Ведь в потомки примитивных неандертальцев можно зачислить любую неугодную расу или этническую группу людей.
Вероятно, с остаточным действием эффекта защиты от популяционных мутаций связано наше двойственное отношение к шимпанзе, которая слишком похожа на нас, чтобы, глядя на нее, мы невольно не начали сравнивать ее с собой. Конрад Лоренц считает, что именно по этой причине мы готовы признать любое животное человеческим предком, но только не обезьяну. «Людей было бы легче убедить в их происхождении, если бы они не были знакомы с шимпанзе. Неумолимые законы образного восприятия не позволяют нам видеть в обезьяне – особенно в шимпанзе – просто животное, как все другие, а заставляет разглядеть в ее физиономии человеческое лицо. В таком аспекте шимпанзе, измеренный человеческой меркой, кажется чем-то ужасным, дьявольской карикатурой на нас» [18, c.220]. И поэтому нам легче поверить, что мы были слеплены из глины.
В пользу того предположения, что наши предки первоначально были полигамны, свидетельствует тот факт, что половой диморфизм особенно ярко выражен именно у полигамных животных, а человек характеризуется ярко выраженным половым диморфизмом, в пользу этого говорит и полигамность человекообразных приматов. Но человек даже и в этом по-своему уникален. Дело в том, что половой диморфизм в животном мире всегда связан с большей привлекательностью самцов [11], у антропоидов же, на определенной стадии эволюции, инициатива привлечения партнера противоположного пола почему-то перешла к самкам. Такое в полигамном сообществе животных в принципе невозможно, поскольку там права на самок у доминирующего самца даже не оспариваются. В моногамном сообществе, поскольку самцы сексуально более активны [12] и обычно не требуют дополнительных стимулирующих факторов, такое возможно только в одном случае, а именно если самцов начнет катастрофически не хватать. Но очевидно, что самки антропоидов, занимающиеся большую часть своей жизни уходом за собственным потомством и потому находящиеся практически всегда в относительно защищенном месте, выживали значительно чаще. Значит, множество самок в моногамном сообществе оставалось без пары. Это служило стимулом для формирования сериальной моногамии (последовательных парных брачных связей). В те жестокие времена самка, потерявшая свою пару, в случае если сразу не находила другую, была обречена вместе с потомством. Поэтому на определенной стадии развития половой отбор начал действовать не только по мужской линии, но и по женской. В животном мире такого не бывает, поскольку детеныши других животных значительно менее требовательны и быстрее становятся самостоятельными, что позволяет самкам практически на равных участвовать в добыче пропитания. Стратегия самок в моногамном сообществе была двояка, либо она ориентировалась на выборе самца-помощника, что способствовало повышению вероятности выхаживания потомства, либо самца-носителя лучших генов.
Если естественный отбор, действующий по закону «выживает наиболее приспособленный», всегда связан с возрастанием адаптивности, то половой отбор, действующий по закону «потомство оставляет сильнейший либо более привлекательный», часто увеличивает инадаптивность, как в случае с ирландским оленем. Например, женские вторичные половые признаки, обязанные своим появлением именно половому отбору, по сути, биологически инадаптивны, поэтому неудивительно, что в спортивных состязаниях, в которых требуется не красота и грация, а выносливость и сила, побеждают чаще женщины с менее развитыми вторичными половыми признаками. Человек и здесь пошел по собственному пути, в животном мире половой отбор приводит к возрастанию инадаптивности самцов, а не самок. Инадаптивность же, если она не связана со специализацией, может стимулировать прогрессивную эволюцию, как средство компенсации потери адаптивности.
Примечательно, что если естественный отбор по мере снижения зависимости от окружающей среды играл все меньшую роль в эволюции гоминид, то роль «полового отбора» все время возрастала. В условиях, когда теоретически могут выжить все, особенно важным становится, кто сможет оставить большее потомство. Все это стимулировало ускоренное развитие полового диморфизма и особой, присущей только человеку сексуальности. Кстати, якобы уникальная женская репродуктивная всесезонность в действительности свойственна самкам практически всех приматов. Но сексуальные связи у приматов случаются только в периоды возможного зачатия, у людей же, после того как появилась необходимость самки привязать к себе самца, такие связи случаются постоянно. Человек и здесь вышел за рамки необходимого минимума, обеспечивающего выживание и продолжение рода. Вероятно, возникновение такого чрезвычайно важного чувства человека, как эстетическое восприятие, является следствием действия полового отбора. Ревность и стыдливость также можно считать результатом действия полового отбора, поскольку в моногамной семье случайные половые связи эволюционно невыгодны. Самцу выкармливать чужое потомство не имеет никакого эволюционного смысла, выкормить же собственное потомство от нескольких самок ему чрезвычайно сложно. Конечно же роль биологических факторов сказывалась и здесь только на начальном этапе социогенеза. Половой отбор долгое время оставался практически единственным значимым детерминирующим фактором биологического эволюционизма вплоть до формирования демократичных обществ, когда и этот фактор биологического эволюционизма, унаследованный от нашего биологического прошлого, потерял свою роль.
Одним из сложнейших загадок антропогенеза является формирование речи и речевого аппарата. Формирование речи – это, прежде всего, проблема первичной социальной эволюции, очевидно, что развитие интеллекта у существ, ведущих общественный образ жизни, просто не могло не протекать параллельно с развитием и средств речевых коммуникаций. К тому же, если учесть, что речь является важнейшей составной частью вторичной сигнальной системы, а значит, и самого сознания. Поэтому развитие речи – это лишь сопутствующая проблема гораздо более сложной проблемы поиска путей формирования сознания. А вот вопрос о формировании речевого аппарата – это уже проблема сугубо биологическая. Либо он случайно оказался преадаптивно достаточно развит уже у первых гоминид (впрочем, не стоит слишком уповать на случай), либо это был результат перманентного группового отбора, поскольку сообщества гоминид, состоящие из особей с более развитым коммуникационным аппаратом, имели селективное преимущество в выживании и продолжении рода. Очевидно, что в более благоприятных условиях оказывались те сообщества гоминид, которые могли вовремя передать соплеменникам понятный им сигнал об опасности, и чем более сложны и дифференцированы были такие сигналы, тем выше было и преимущество. Ф. Энгельс, неосознанно склоняясь к ламаркизму, предложил свое решение путей формирования речи: «…формировавшиеся люди пришли к тому, что у них появилась потребность что-то сказать друг другу. Потребность создала себе свой орган: неразвитая гортань обезьяны медленно, но неуклонно преобразовывалась путем модуляции для все более развитой модуляции, а органы рта постепенно научались произносить один членораздельный звук за другим» [19, c.489]. Работа была написана незадолго до официальной даты рождения генетики (1900 г.). А именно генетиками было доказано, что приобретенные признаки не наследуются, и как бы далеко ни зашли упражнения обезьяны по развитию собственной речевой модуляции, потомство ее все равно будет рождаться с таким же неразвитым голосовым органом.
По поводу утраты хвоста предками человека также было немало споров. Потеря основной (проксимальной) части хвоста произошла естественным путем, под действием естественного отбора, в результате перехода к прямохождению еще в доантропологической фазе эволюции, данный вопрос не вызывает разногласий. Но как произошла утрата его концевой части, которая, казалось бы, не несла ни адаптивной пользы, ни вреда? Дарвин предположил, что этот процесс был результатом «трения при сидении». Такой вывод, который современному антропологу может показаться даже наивным, явился результатом не полного преодоления Дарвином ламаркистских взглядов. Он, как известно, не исключал некоторую роль «упражнения и не упражнения органов» в эволюции. Можно и здесь предположить влияние «полового отбора» и фактора, который мы обозначаем как «защиту от популяционных мутаций». В результате действия последнего фактора в становлении человека современного типа сыграла свою конструктивную роль, казалось бы, беспричинная ненависть к обезьянолюдям. Из общины неоантропов изгонялись либо даже уничтожались все, кто более других напоминал своей внешностью примитивных сородичей.
Переход к наземному образу жизни является важнейшей вехой первичного антропогенеза, поскольку это стимулировало развитие бипедии (прямохождение) и некоторых других гоминоидных признаков. Но и здесь не было ничего неповторимо уникального. Осознание собственной уникальности человеком слишком глубоко сидит в нас, и поэтому мы непроизвольно склонны преувеличивать ее. В действительности бипедия – это не человеческое достижение. Бипедия была свойственна уже нашим дальним предкам, стоящим фактически на том же уровне развития, что и современные человекообразные обезьяны.
Считалось, что такой необычный способ передвижения, как бипедия, развился у предков человека потому, что он освобождал им руки. При помощи рук они могли переносить орудия, которые научились изготавливать благодаря своему увеличенному мозгу. Однако за последние десятилетия наши знания об ископаемых предках человека настолько возросли, что позволяют сделать следующий вывод: бипедия развилась у предков человека настолько давно, что связывать это напрямую с эволюцией гоминидной ветви не приходится. Речь идет об антропоидах, названных австралопитеками. Как показывает анализ строения таза одного из австралопитеков – самки гоминида AL-288, известной в обиходе как «Люси», жившей около 3 млн лет тому назад, она определенно передвигалась на двух ногах. Бипедия, очевидно, возникла в доантропоидной фазе эволюции человека. И если прямохождение было вполне сформировано уже у австралопитеков, его возникновение может быть датировано стадией древнейших предков гоминид, ветвь которых отделилась от других приматов, вероятно, 8–10 млн лет тому назад.
Переход к прямохождению многими исследователями часто наделяется ореолом таинственности. Возникновение бипедии якобы не поддается рациональному объяснению в свете сложившихся эволюционных воззрений, что играет лишь на руку креационистам. Например, Оуэн Лавджой в связи с этим пишет: «Большая масса головного мозга и способность изготавливать сложные орудия – несомненно, главные особенности, отличающие человека от других животных. Однако нас отличает и третья особенность: выпрямленный способ передвижения, который присущ только человеку и его непосредственным предкам. Все остальные приматы по сути четвероногие и не без основания: передвижение на двух ногах вместо четырех имеет много недостатков, оно лишает нас быстроты и ловкости, делает почти неспособными лазить на деревья, где растет такая важная для приматов еда, как фрукты и орехи» [20, с.64].
Дошло до того, что ученные начали сомневаться в самой возможности происхождения человека путем дарвиновского естественного отбора. В действительности существует несколько органичных теорий возникновения бипедии. Их можно разделить на две группы: гипотезы, объясняющие возникновение бипедии теми прямыми преимуществами, которые она дает в плане локомоции, и гипотезы, рассматривающие ее как побочный продукт действия многих факторов отбора, направленного, как правило, на хватательную специализацию верхних конечностей и увеличение связанных с ней преимуществ [7, с.224–225]. Мы склоны считать, что это скорее побочный продукт эволюции гоминид, причем одним из важнейших «преимуществ» которое бипедия давала, было увеличение давления отбора, поскольку в целом этот признак все же менее адаптивен. Однако не стоит преувеличивать инадаптивный характер бипедии. Как предполагают Родмэн и Мак-Генри, человеческая походка при обычной скорости передвижения дает даже больший энергетический эффект, чем передвижение шимпанзе на четырех ногах, поэтому при прочих равных условиях этот способ локомоции мог эволюционировать как более адаптивный [21]. И если можно еще спорить о том, какой из двух основных способов локомоции более адаптивен, то уже очевидно, что способ локомоции человекообразных обезьян с опорой на тыльные стороны кистей менее адаптивен, нежели даже бипедия. Эволюция необратима, и после того как приматы специализировались к древесному обитанию, вернувшись к наземному образу жизни, они уже не смогут вторично приобрести столь же полноценный способ наземной локомоции. Для этого их эволюционная пластичность была уже явно недостаточна. Впрочем, бипедия не является уникальным достижением гоминидной ветви эволюции, данный способ локомоции известен, например, у хищных динозавров и млекопитающих, в том числе и приматов негоминидной ветви.
Точно так же и переход к наземному обитанию не является уникальной особенностью гоминид в ряду других приматов. Почему-то принято считать, что такая смена ландшафта была связана с сокращением лесов, в результате ксерофитизации климата, когда лесов якобы стало не хватать. В живой природе благоприятных территорий всегда не хватает, поскольку жизнь развивается до максимально возможных пределов насыщения, и всегда какая-то часть особей вытесняется за пределы оптимальности. Наземный образ жизни приматы осваивали многократно в филогенезе, но только один раз выбранный путь привел к формированию гоминид. И в настоящий момент среди высших приматов (узконосых) 42,9% обезьян ведут наземный образ жизни. Переход к наземному образу жизни является необходимым, но недостаточным условием. Эволюция в такой ситуации вполне может пойти и в сторону повышения физических данных. Крупный самец гориллы, с палкой в руках, способен отогнать любого хищника. Мы наблюдаем здесь бифуркационную вилку. Природа выбрала оба пути. Изящный Australopithecus afarensis дал начало как столь же грацильным представителям рода Homo, так и массивным формам австралопитековых: A.boisei и A.robustus. Вероятно, такая же дивергентная вилка привела к разделению потомков Homo erectus на две альтернативные эволюционные линии: одна привела к грацильным архаичным сапиенсам и впоследствии непосредственно к кроманьонцу, другая – к массивному неандертальцу, оказавшись при этом тупиковой. Следует особо отметить, что грацилизация скелета прогрессивной ветви гоминид шла непрерывно, вплоть до формирования древнейших цивилизаций, т.е. до прекращения действия естественного отбора. Почему это происходило, ведь грацилизация не несет никаких адаптивных преимуществ? Как отмечает Г.Ф. Дебец, «ни сравнительная анатомия, ни этнография не дают нам права считать, что в рамках вида Homo sapiens грацильные формы являются более совершенными» [22, с.20]. Можно предположить, что здесь сыграл свою роль фактор, обозначаемый автором как «инадаптивный прогресс». Грацильные формы были более инадаптивны, и потому именно они были вынуждены двигаться по прогрессивному пути эволюции.
И все-таки более прогрессивное направление эволюции хоть и не было связано с возрастанием физических данных формирующихся гоминид, но все-таки приводило к неуклонному возрастанию размеров тела. Несмотря на фрагментарность находок ископаемых гоминид, не вызывает никакого сомнения, что эволюция от Australopithecus afarensis вплоть до Homo sapiens sapiens протекала с увеличением абсолютных размеров тела. Данное явление широко распространенно в животном мире и известно как правило Копа, согласно которому прогрессивное развитие, как правило, сопровождается с увеличением абсолютных размеров. И действительно, эволюция любого крупного биологического таксона обычно начинается с появления мелких форм, в результате дальнейшей прогрессивной эволюции появляются новые, все более крупные, формы, при этом мелкие формы также остаются, поскольку их ниши с крупными формами не пересекаются. И поскольку крупные размеры это тоже своего рода специализация, такие формы всегда оказываются тупиковыми, и только мелкие животные дают начало новым филогенетическим группам, и все повторяется. Разумеется, данные процессы носят статистический, совсем необязательный характер. Все это не более как один из наиболее вероятных сценариев развития таких крупных таксонов, как тип или класс.
Удивляет, прежде всего, то, что в целом мелкие виды являются филогенетически более устойчивыми. Они быстрее восстанавливают численность после катастроф благодаря более высокой плодовитости и меньшему времени достижения регенерационного возраста. И они, будучи менее специализированными, эволюционно более пластичны, и поэтому их филогенетический ресурс, как правило, выше. Конечно имеется множество преимуществ и в больших размерах. Прежде всего, это сокращение относительной доли необходимой пищи, сокращение потери тепла, благодаря меньшему соотношению площади поверхности к объему тела, снижение удельной нагрузки на сердце и другие жизненно важные органы, удельные энергозатраты на мозг также снижаются, которые у млекопитающих просто чудовищны. Можно еще добавить возрастание независимости от хищников и продолжительности жизни, есть еще некоторые другие, менее существенные достоинства крупных размеров. И все же в целом крупные размеры себя не оправдывают. У мелких форм смертность выше. Этот недостаток с лихвой компенсируется тем, что они быстро восстанавливают свою численность. Высокая удельная потребность в пище, но ведь абсолютные доли необходимой пищи намного ниже. Конечно, таким крошечным теплокровным, как бурозубка или колибри, приходится туго, они уже через 2 часа могут погибнуть от голода, но это тоже крайность, обычно у мелких форм шансов погибнуть от голода значительно меньше.
В чем же тогда адаптивная сущность правила Копа? Ученые предлагают множество объяснений, но в действительности крупные размеры не имеют первичной адаптивной значимости. Гиганты менее адаптивны. У ученых, особенно небиологов, очень распространенно ошибочное мнение, что адаптации абсолютны и в природе все предельно целесообразно. Вовсе нет, природа пробует самые различные варианты устойчивости, если бы она всегда выбирала только оптимальные решения, эволюционное древо состояло бы лишь из одной ветви. Крупным формам повезло меньше, они выбрали менее выгодный путь. Но тут начинается самое интересное: прогресс обеспечивается крупными формами не потому, что этот путь более прогрессивен, а лишь потому, что им тяжелее, и поэтому приходится развиваться дальше (крупные размеры как преадаптация прогресса). К тому же крупные размеры открывают целый ряд дополнительных факторов, способствующих дальнейшему прогрессивному росту. Увеличение мозга, которое возможно только с увеличением абсолютных размеров, необходимость более широкого и активного поиска пищи, повышение продолжительности жизни и времени выхаживания потомства. В частности, Оуэн Лавджой по этому поводу указывает на такое очевидное следствие укрупнения гоминид, как усиление заботы о потомстве [7, с.185]. И действительно, у более крупных млекопитающих возрастают сроки постэмбрионального развития, что увеличивает продолжительность периода, когда необходима забота о потомстве, а значит, способствует формированию и развитию преемственности знания и социализации.
Таким образом, рост абсолютных размеров в эволюции гоминид не имел непосредственного адаптивного значения, а являлся лишь преадаптивным следствием, способствующим дальнейшему прогрессу. Просто эстафетную палочку прогрессивной эволюции гоминид принимали крупные формы, те изгои эволюции, которым не повезло быть слишком крупными, и потому пришлось больше постараться, чтобы выжить. Данное явление, когда инадаптивность стимулирует прогрессивную эволюцию, мы обозначаем как инадаптивный прогресс.
О том, что линия Homo первоначально была значительно хуже приспособлена в сравнении с ближайшими их конкурентами австралопитековыми, красноречиво говорит тот факт, что в палеонтологических раскопках регистрируют значительно больше останков австралопитековых в тех же слоях [7, с.300]. Худшая адаптированность – это большее давление отбора, что дает больше возможностей для прогрессивного роста. Ослабление конкуренции с австралопитековыми было возможно посредством двух стратегий. Первая – сужение экологической ниши, дабы снизить ее перекрываемость, этот путь ведет к специализации, снижению пластичности и потому является тупиковым, вторая – сохранение и даже расширение экологической ниши путем выдавливания конкурентов. Люди выбрали второй путь, более сложный, но прогрессивный, и не ошиблись.
1.2. Социальная эволюция
Постепенно, по мере все большей социализации древнего человека, биологические факторы эволюции теряли свою детерминирующую роль. И все большее значение начинали играть значительно более эффективные факторы прогрессивного детерминизма социального характера. Изложение социальной эволюции человека начинается в данной работе после эволюции биологической. Может сложиться такое обманчивое впечатление, что социальная эволюция как бы является следующим шагом эволюционирования гоминид, пришедшим на смену эволюции биологической. Это не совсем так. Социализация древнего человека началась еще с возникновением самого древнего представителя рода Homo – Homo habilis. Вернее даже между линией Australopithecus afarensis и Homo habilis. Но тогда еще биологические факторы эволюции играли несравнимо большую роль, поэтому социальная эволюция пришла не на смену эволюции биологической, а постепенно замещала ее. И даже Homo sapiens sapiens еще долго в значительной степени зависел в своем развитии и от факторов биологического эволюционизма.
Что особенно характерно для эволюции гоминид, так это особая роль именно «группового отбора», когда субъектами процессов «борьбы за существование» выступали уже не особи, а определенные социальные группы. Тому способствовало развитие интеллекта и средств межличностной коммуникации, когда каждый индивид в отдельности представлял довольно жалкое зрелище, но в сообществе себе подобных стадо гоминид представляло уже грозную силу, способную дать отпор любому хищнику. Сначала единицей группового отбора выступало стадо, затем община, племя и, наконец, государство. Ведь действительно, слабому представителю человечества проще сохранить и распространить свои гены в сильном государстве, чем сильному представителю в слабом. Вероятно, одной из важнейших причин постоянного повышения роли социальной эволюции над эволюцией биологической является именно всё возрастающая роль в ней группового отбора. Групповой отбор не является чисто человеческим завоеванием. Истоки группового отбора лежат в нашем биологическом прошлом. К. Лоренц пишет, «очень нелегко понять историю человечества. Постоянно повторяющиеся события этой истории нельзя объяснить, исходя из человеческого разума. Сказать, что они обусловлены тем, что обычно называют «человеческой натурой», – это пустые слова. Разумная, но нелогичная человеческая натура заставляет две нации состязаться и бороться друг с другом, даже когда их не вынуждает к этому никакая экономическая причина; она подталкивает к ожесточенной борьбе две политические партии или религии, несмотря на поразительное сходство их программ всеобщего благополучия; она заставляет какого-нибудь Александра или Наполеона жертвовать миллионами своих подданных ради попытки объединить под своим скипетром весь мир. Примечательно, что в школе мы учимся относиться к людям, совершавшим все эти дикости, с уважением; даже почитать их как великих мужей… как с обществом крыс, которые так же социальны и миролюбивы внутри замкнутого клана, но сущие дьяволы по отношению к сородичу, не принадлежащему к их собственной партии» [18, с.233–234]. Вероятно такое поведение является пережитком «группового отбора», который потерял свою актуальность для человека, но все еще отдается грозным эхом в нашей истории. Ведь, в сущности, человек вырвался из оков биологического эволюционизма не более 2–3 тысячелетий назад, для вида это весьма незначительный срок.
Попытки раскрыть законы развития человеческого общества с использованием методологической базы биологического эволюционизма не только ошибочны, но и вредны и даже опасны. Даже в животном мире «борьба за существование» – это далеко не всегда борьба «клыков и когтей» и уж тем более неправомерно интерпретировать законы развития общества как «законы джунглей». Есть общие закономерности развития природы и общества, но механизмы самоорганизации всегда индивидуальны. Попытки придать «борьбе за существование» социальную окраску проистекают от незнания дарвиновского учения. Дарвин, как известно, с большой осторожностью относился к попыткам перенесения теории биологической эволюции на общество и вовсе не склонялся, как часто принято считать, исключительно к эгоистическим формам «борьбы за существование». Человек не подвержен направленному действию «естественного отбора» в биологическом смысле этого выражения. Человек развивается под действием «естественного отбора» идей, технологий, моделей развития и поведения и т.д., а не самих людей. Впрочем, здесь уместнее употреблять другое дарвиновское определение, а именно «искусственный отбор».
Человек, приблизительно с момента своего окончательного формирования, около 30–40 тыс. лет находится в состоянии биологического стазиса, т.е. если и эволюционирует биологически, то не направленно. Здесь нет никакого противоречия с теорией Дарвина, ведь человек – существо, прежде всего, социальное, а уж потом биологическое. Разве больше выживают представители власть имущих в сравнении с простым народом? Профессия главы государства считается самой опасной. К сожалению (или к счастью), в человеческом обществе больше шансов на выживание имеет не сильнейший. Во все времена больше всего гибли самые смелые и сильные, власть имущие, передовая интеллигенция, министры, генералы и т.д. Однако сказать, что под селективный пресс естественного отбора попадают более удачливые и одаренные, тоже нельзя, поскольку они в спокойные исторические эпохи все-таки имеют некоторое селективное преимущество на расширение собственной генетической линии. Весы селективного отбора покачиваются, но сохраняют шаткое равновесие, поэтому человеческий генофонд меняется в целом незначительно и стихийно (популяционные волны).
Все объясняется достаточно просто, двигателем эволюции общества являются, прежде всего, потребности (в том числе и духовные), а потребности, как известно, растут пропорционально возможностям. Поэтому рост возможностей компенсируется адекватным ростом потребностей, что приводит к тому, что давление среды на общество сохраняется либо даже иногда возрастает. Поэтому никаких адаптивных преимуществ в биологическом плане прогрессивный рост не дает. Человек еще в раннем палеолите худо-бедно обеспечил свое биологическое существование и борется уже не столько за выживание, сколько за лучшую жизнь. С того момента, как человек стал выхаживать не способных на самостоятельное существование иждивенцев, он борется уже не просто за существование, а за достойное существование (правда, к сожалению чаще в материальном, а не в моральном смысле этого слова). А более достойное существование вовсе не повышает шансы на выживание и тем более на большее потомство. В бедных семьях, как правило, больше детей. Поэтому, если и можно было вооружить этику дарвиновским учением, тогда она должна была нас учить аскетизму.
Дополнительным фактором стохастического возмущения на пути детерминирующего отбора служит социальная среда, в которой развивается индивид. Условия, в которых развивается человек, накладывают глубокий отпечаток на фенотип человека, бездарный может реализоваться, а одаренный впасть в нищету, как тут не ошибиться естественному отбору. К тому же человек, в отличие от других живых организмов, связан с природной средой не непосредственно, а через призму целого комплекса факторов социального характера. Человек, перестраивая среду по своим потребностям, тем самым избавляет себя от необходимости адаптироваться к ней биологически.
Интересно отметить, что если в процессе формирования человека его абсолютные размеры неуклонно росли, то, уже около 100 тыс. лет назад, после окончательного формирования Homo sapiens sapiens (человека кроманьонского типа) размеры человека начали столь же неуклонно сокращаться. Видимо, после того, как сравнительно большой рост сыграл свою положительную роль в становлении человека и дальнейшее развитие уже шло под руководством социальных факторов, излишний рост стал лишней обузой. Никаких социальных преимуществ большой рост, как правило, не давал, а биологически, возможно, даже был менее адаптивен. Более высокие потребности в пище плюс более высокая вероятность гибели на охоте и в войнах, поскольку сильные всегда сражались в первых рядах. К тому же половой отбор в направлении женщина → мужчина практически потерял свою роль в патриархальных культурах, но даже его остаточное действие в большей степени ориентировалось не на биологические критерии, а на социальный статус. И неизвестно как далеко зашло бы это буквальное измельчание, но роль такого важнейшего биологического фактора эволюции, как естественный отбор, резко снизилась после формирования древнейших цивилизаций. И действительно, шансы выжить начали зависеть уже не столько от того, насколько ты силен или здоров, а от того, какое социальное положение ты занимаешь и к какой цивилизации ты имеешь честь принадлежать.
Впрочем, по всей видимости, естественный отбор в смутные времена междоусобиц еще частично сохранял определенную детерминирующую роль. Плотность населения непрерывно росла, возрастала внутривидовая конкуренция. В борьбе за место под солнцем уничтожались целые народы. Но даже и тогда естественный отбор происходил не столько под влиянием биотических и абиотических факторов, сколько в результате воздействия факторов социального характера. По мере все большей социализации древнего человека, борьба за ресурсы постепенно замещалась борьбой за идеи. Не последнюю роль здесь играла религиозная непримиримость. Побеждали те народы, которые эффективнее экспансировали свою идеологию, тем самым приобретая дополнительных союзников.
Встает закономерный вопрос, если Homo sapiens практически не развивался по законам биологического эволюционизма, каким же образом кроманьонец смог дивергировать до столь морфологически различных рас? Во-первых, что бы там ни утверждали расисты, биологические различия между расами весьма ничтожны и далеки не только до видовых, но даже и до подвидовых. Во-вторых, социальная эволюция во времена, когда человек был еще подвержен направленному действию естественного отбора, могла еще более усиливать накопление биологических различий между различными расами. «Культурная эволюция – процесс гораздо более быстрый, чем биологическая эволюция. Один из ее аспектов – глубоко заложенная в человеке (и странным образом ламаркистская) способность к культурной эволюции путем передаче от одного поколения другому накопленной информации» [23, с.30–31]. Здесь мысль Майера нужно пояснить. Казалось бы, что же ламаркистского в «передаче от одного поколения другому накопленной информации». Суть заключается в том, что, согласно «ламаркизму» и «неоламаркизму», наследоваться могут приобретенные признаки, что в общем-то не подтверждается современными данными молекулярной биологии. До сих пор нет никаких данных, подтверждающих, что ретровирусы и так называемые мобильные генетические элементы (плазмиды и некоторые другие нехромосомные носители наследственности) могут направленно влиять на половые клетки. А ведь только в этом случае можно было бы говорить о наследовании приобретенных признаков. И уж совсем трудно даже вообразить, каким образом такое воздействие может носить адаптивный характер, разве что если мы наделим ретровирусы разумом. Но все в корне меняется, если мы рассматриваем не биологическую, а культурную эволюцию человека. Здесь царит всемогущий перст «ламаркизма». Все накопленные знания и жизненный опыт, передаваемые из поколения в поколение, и обеспечивают закономерный прогрессивный рост. Здесь, вероятно, ламаркисты неосознанно проявляют антропоморфизм, наделяя биологическое свойством социума.
Главное, что сделало человека человеком, – это не столько интеллект как таковой, сколько память. Ортега-и-Гассет, быть может слегка преувеличивая, пишет, что даже самые высокоорганизованные животные начинают новый день с чистого листа, не помня практически ничего из прожитого: «Современный тигр таков же, как и шесть тысяч лет назад, потому, что каждый тигр должен заново становиться тигром, словно у него и не было предшественников. Напротив, человек благодаря своей способности помнить копит собственное прошлое, владеет им и извлекает из него пользу. Он никогда не окажется первым на Земле человеком – его существование начинается на определенной высоте, на вершине накопленного. Поэтому высший человеческий тип Ницше определил как существо «с самой долгой памятью». Попытка порвать с прошлым, начать все с нуля – это попытка стать или притвориться орангутангом» [24, с.207].
Преемственность знания в социальных системах выполняет ту же роль, что и наследственность в биологической самоорганизации. В первом случае развитие имеет целевую детерминацию, во втором – детерминация происходит естественным отбором. Это позволило человеку перейти на качественно новый уровень самоорганизации, не имеющий других аналогов в природе по темпам прогрессивного развития. «Даже если один-единственный индивид приобретает какую-то важную для сохранения вида особенность или способность, она тотчас становится общим достоянием всей популяции; именно это и обуславливает упомянутое тысячекратное ускорение исторического процесса, который появился в мире вместе с абстрактным мышлением» [18, с.243].
Если биологические факторы в социальной самоорганизации потеряли свою роль, почему же тогда процессы адаптивной биологической дивергенции не прекратились после освобождения человека из пут естественного отбора? Иными словами, каким образом накопление знаний могло способствовать накоплению биологических различий? Попробуем смоделировать такую ситуацию. Если бы расовая эволюция проходила биологическим путем, тогда кроманьонец расселялся стихийно и повсеместно, где только возможно. В результате на юге выживали преимущественно темнокожие представители, на севере же люди с более светлой кожей. Дело в том, что темная кожа лучше предохраняет от ультрафиолетового излучения, тогда как светлая лучше способствует синтезу витамина D. Теория эволюции учит, что даже незначительное преимущество какого-либо гена, в конечном счете, приведет к тому, что он будет вытеснять все альтернативные гены данной аллели. Но это чисто биологическая модель дивергенции по цвету кожи. В социальной модели развития на первый план выходит не «естественный отбор», а осознанное целенаправленное поведение. Поэтому здесь уже наблюдается одно, но очень важное отличие от биологической модели расовой дивергенции, а именно миграции людей с различной пигментацией кожи будут происходить не стихийно, а осознанно. На данном примере, если люди с более светлой кожей получат информацию о более комфортных условиях на севере, то это может привести к целенаправленной миграции. И тогда дивергенция по цвету кожи может протекать и без участия отбора. То есть в идеале, могут выжить все, но все равно произойдет географическое расслоение людей по данному признаку. Вероятно, аналогичным путем проходила дивергенция и других расовых признаков.
Дополнительным фактором, закрепляющим достигнутые расовые отличия, служит этническое самосознание, в результате которого чаще отдается предпочтение бракам между людьми с характерной для данной общности антропоморфологией. Дарвин данный фактор, а именно «половой отбор», считал определяющим в становлении человеческих рас, однако логичнее предположить данный фактор как вторичный и лишь только закрепляющий достигнутый уровень адаптивного разделения. Я. Я. Рогинский и М. Г. Левин в связи с этим отмечают, что, по Дарвину, «наиболее сильные и энергичные мужчины выбирали себе в первобытном обществе наиболее привлекательных женщин; потомство от таких мужчин было наиболее многочисленным; в конечном итоге под влиянием полового отбора должен был формироваться тип племени. Чарльз Дарвин оставил, однако, без должного рассмотрения вопрос о том, потому ли возник тот или другой расовый тип, что его черты стали неизвестно от чего привлекательны для наиболее сильных и энергичных представителей племени, или, наоборот, последние потому и одобряли некоторые черты внешности, что эти черты некогда стали типичными для данной группы. Иначе говоря, действительно ли половой отбор создавал расовые особенности или, наоборот, расовые особенности, возникшие от другой причины, сами породили определенную направленность полового отбора на поддержание уже существующего племенного типа» [15, с.502–503].
В Новое время, когда человек напрямую практически не зависит от окружающей среды, все накопленные расовые признаки уже не имеют адаптивного значения. Однако этническое самосознание и «половой отбор» препятствуют ассимиляции накопленных биологических различий, которые давно потеряли былую функциональность.
Таким образом, в биологических системах главным детерминирующим фактором эволюции является естественный отбор. В социальных системах в процессах самоорганизации участвует сознание, и в результате целенаправленности поведения развитие экспоненциально ускоряется.
В Новое время можно практически с уверенностью сказать, что человек окончательно победил «естественный отбор». К сожалению, человек и сейчас умирает не только от старости, но это не имеет ничего общего с «естественным отбором». Гибнут слабые и сильные, приспособленные и не очень, здоровые и больные, и далеко не всегда можно сказать, что среди больных людей смертность выше. Например, выяснилось, что продолжительность жизни среди больных диабетом даже несколько выше нормы, связанно это с тем, что диабетики вынуждены уделять больше внимания своему здоровью. «Постепенное ослабление борьбы за существование неминуемо вело к выходу человека из состава биоценоза. Этот медленно протекающий процесс привел к тому, что естественный отбор для человека сначала ослабел, а затем и вовсе прекратился. Но отсутствие естественного отбора было равносильно прекращению действия одного из факторов эволюции, и биологическая эволюция человека должна была остановиться. Это произошло 50 000 лет назад, когда оформился кроманьонец» [25, с.299]. Все же скорее естественный отбор начал ослабевать значительно позже, лишь с формированием государственного строя и окончательно потерял свою роль лишь в Новое время.
Победа над «естественным отбором», безусловно, важное и полезное завоевание, но в результате накопление вредных мутаций больше не ограничивается отбором, что приводит к постепенной биологической деградации человека. Особенно быстро протекает такое накопление генетического груза в развитых странах, с наименьшими показателями смертности. Причем в последние годы ситуация стала особенно тревожной. Дело в том, что если естественный отбор потерял свою детерминирующую роль в обществе, то роль полового отбора до последнего времени частично сохранялась. Ведь трудно отрицать, что вероятность вступления в брак людей с выраженными наследственными аномалиями значительно ниже. Однако в последние годы, когда искусственное оплодотворение стало обычной практикой, когда этические и правовые барьеры внебрачных отношений уже не так жестки, когда существуют значительные социальные дотации инвалидам с детства, роль полового отбора уже также незначительна. И здесь ничего нельзя изменить, если человечество сохранится ценой невинных, тогда зачем такому человечеству вообще существовать. Впрочем, проблема накопления генетического груза стала так остро именно в последние годы в связи с ростом мутагенов в окружающей среде и в продуктах питания. Поэтому если удастся решить экологические проблемы, тогда и проблема накопления генетического груза в большей степени разрешится.
Н. П. Федоренко и Н. Ф. Реймерс считают, что биологического потенциала существования человеческого вида хватит еще лишь на 30–40 тыс. лет [26]. Прогноз М. Лобзака еще более удручающ, по его мнению, человек в биологическом смысле представляет собой ошибку природы с гипертрофированным мозгом и просуществовать ему дано не более 20–50 поколений, т.е. 700–1700 лет (цит. по: [27, с.208]). Хочется надеяться, что человек найдет пути преодоления и этой опасной тенденции. При этом абсолютно неприемлемы чудовищные по своей жестокости методы евгеники. Возможно, в перспективе эту проблему удастся решить посредством нанотехнологий и генной инженерии или, в крайнем случае, посредством ранней диагностики патологий эмбрионального развития, впрочем, даже в последнем случае встают проблемы этического характера. Как уже отмечалось, решение экологических проблем может значительно упростить данную задачу.
С момента, как человек развил инфраструктуру своего сосуществования с природой, дающую ему независимость от естественных факторов, он окончательно потерял способность эволюционировать биологически. Перестав адаптироваться непосредственно к факторам дикой природы, человек успешно адаптируется к ней посредством техногенной инфраструктуры. После того как человек вырвался из оков основного закона биологического детерминизма, закона борьбы за существование, он уже не борется просто за существование, а «борется» за достойное существование. Решив проблему «как выжить», человек начал решать более сложную проблему «как лучше жить». Может, человек именно тем и отличается от животных, что его потребности не ограничиваются жизненными?
Можно дать множество определений человека в зависимости от того, в каком аспекте его рассматривать.
1. Онтологическое – человек есть способ существования духовной составляющей бытия.
2. Аксиологичекое – человек – носитель определенных ценностей, не имеющих непосредственного прагматического значения, основой которых служит рефлексия и, прежде всего, этическая составляющая самосознания.
3. Эстетическое – человек – творец и истинный ценитель прекрасного, для которого красота не только следствие рациональной целесообразности, но и самоцель.
4. Биологическое – человек – носитель определенной морфофизиологической структуры и генотипа.
5. Метатрансформистское – человек не столько приспосабливается к внешней среде (конформизм), сколько приспосабливает среду (трансформизм).
6. Утилитарно-рационалистское – человек как вершина эволюции неравновесных систем, наиболее эффективно противодействующая разрушительному влиянию хаоса.
7. Акаузально-аттракторное – человек характеризуется тем, что им движет не причинное, а целевое содержание поступков.
И все же главным и определяющим, на наш взгляд, является последнее. Прежде всего, человек действует не потому что, а для того чтобы. Иными словами, человека не столько подталкивает прошлое, сколько притягивает будущее. Основное отличие человека в контексте самоорганизации – это целенаправленность существования и развития, базирующееся, прежде всего, на предсказывающем (экстраполирующем) поведении. Человек стал человеком не тогда, когда он начал осознавать свое существование и свои поступки, а когда он стал их осознанно оценивать и в зависимости от оценки их корректировать. Сознание – фундамент формирования человеческого общества, оценочная селективность поступков – следствие, определяющее развитие сознания. Причинно-следственная петля замкнулась, обеспечив прогрессивное экспоненциальное развитие. Как писал Винер, «одна из особенностей при сравнении человека с другими высшими млекопитающими заключается, по-видимому, в том, что последние способны лишь к предсказывающему поведению низшего порядка, тогда как человек потенциально способен к весьма высоким порядкам предсказывания» [28, с.290]. И именно на основе такого «опережающего отражения действительности», согласно П. К. Анохину, возможно моделирование будущего [40]. Для человека будущее приобретает смысловое содержание. Известный психолог В. Франкл пишет, что «с утратой человеком своего будущего утрачивает всю свою структуру его внутренний временной план, переживание им во времени. Возникает бездумное наличное существование» [30, с.141].
Важным следствием целенаправленности развития является значительно большая детерминация на активный позитивный рост. Если в организмических системах эволюция обеспечивается через ряд случайных изменений (наследственная изменчивость), причем значительная доля этих изменений (генетических мутаций) бесполезна и чаще просто вредна, то в целедостигаемом развитии общественных систем ошибки уже менее вероятны.
Проанализируем для более полной наглядности три альтернативные модели прогрессивного развития. «Модель естественного отбора, заключающаяся в том, что в результате адаптивной радиации потомство бывает как менее, так и более приспособленным, вероятность выживания, конечно же, будет выше у более приспособленных, которые дадут еще более приспособленное потомство. «Модель искусственного отбора», когда человек отбирает в потомстве своих домашних любимцев наиболее интересных особей для дальнейшего размножения, допустим голубей с красными пятнами, в следующем поколении красных пятен будет больше и т.д., пока потомство не станет полностью красным. «Модель целевого отбора», когда, например, при подготовке спецподразделений, происходит интенсивное обучение, чередующееся с жестким отбором, в результате, в конце остаются наиболее подготовленные, которые впоследствии, добавив к полученным знаниям богатый опыт, сами станут проводить подготовку, причем на более эффективном уровне и т.д. Первую и вторую модели объединяет стохастичная форма изменчивости, вторую же и третью модели объединяет целевой характер отбора. Что общего между всеми этими моделями? Во всех случаях имеет место изменчивость, дающая возможность отбора и собственно отбор, и от эффективности отбора будет зависеть конечный результат. На этом общие черты заканчиваются, различий же гораздо больше. Во-первых, изменчивость в моделях «естественного отбора» и «искусственного отбора» стохастична, она равновероятно может как отдалить от определенного идеала, так и приблизить к нему, в «модели целевого отбора» изменчивость характеризуется только различиями в приближении к идеалу. От него не отдаляется никто, все только приближаются. Во-вторых, сам процесс отбора для «модели естественного отбора» значительно более стохастичен, поскольку вовсе не обязательно выживут именно наиболее приспособленные и оставят потомство, постольку более приспособленные имеют только лишь большую вероятность выживания. В двух других моделях отбор более эффективен, поскольку человек осознанно отбирает лучших. Главное же отличие модели «целевого отбора» в том, что, как бы ни отличались полученные навыки у курсантов, любой приобретенный полезный опыт может быть освоен и использован всеми. Очевидно, что последняя модель наиболее эффективна, поскольку позволяет получить полезные результаты уже в первом поколении, и все благоприобретенные навыки, теоретически, могут тут же стать всеобщим достоянием.
Качественный переход к целенаправленному способу развития соответствует все той же глобальной тенденции, проявляющейся во все большей детерминации будущим в процессе прогрессивного развития систем. И это столь же верно в отношении развития культур и этносов. Как отмечает Хосе Ортега-и-Гассет: «Греки и римляне страдают удивительной слепотой по отношению к будущему, жизнь их во всем опирается на прошлое. Жизнь архаизирована, и такой она была почти у всех людей древности, недоразвитое чувство будущего и преувеличенное – прошлого. Мы, европейцы, всегда тяготели к будущему и верили, что там лежит главное пространство времени, которое для нас начиналось с того, что «будет», а не с того, что «было». Понятно, почему античная жизнь нам кажется вневременной» [24, С. 150–151]. Здесь так же, как и у Шпенглера, ощущается недостаток историчности в восприятии культур, эволюционного подхода. Ведь дело, в сущности, не в том, что европейская культура качественно отличается от античной, а в том, что попросту она значительно старше, а значит, и в большей степени детерминирована будущим. И это проявляется во всем, даже деньги из будущего нас содержат, мы покупаем в кредит, строим заводы, поезда и самолеты в счет будущих доходов, по лизингу и даже живем в кредит, в надежде когда-нибудь оправдать свое наличное существование.
При этом в целенаправленности самоорганизационных процессов ни в коей мере не нужно выискивать какого бы то ни было эсхатологического или телеологического смысла (causa finalis). Даже в самом общем виде движение к заданной цели сродни с бесконечным движением к «абсолютной истине» как в апории «Ахилл и черепаха». К тому же «цель» не в общем, а в конкретном содержании – это всегда не конечное, а промежуточное звено в бесконечной цепи целедостигаемого развития. И не случайно еще О.Конт характеризовал историю не как ряд случайных событий, а как ряд достигнутых целей.
Понятие «цель» является отражением стремления всех эволюционирующих систем [13] к удовлетворению собственных потребностей, однако для биологических систем потребности это хоть и необходимое, но вторичное по отношению к «борьбе за существование» свойство эволюционного процесса. Удовлетворение потребностей в животном и растительном мире является следствием, непосредственно вытекающим из факта «борьбы за существование». Для человека же потребности выходят далеко за рамки борьбы за выживание, и поэтому здесь потребности уже не вторичный, а первичный детектор эволюционного процесса. «Борьба за существование» здесь замещается «борьбой за достойное существование». «Естественный отбор» вообще теряет свою направленную детерминирующую роль. Вся эволюция общества сводится к осознанному целедостижению текущего уровня потребностей [31, с.100–109].
Филогенез (биологическая эволюция) также можно охарактеризовать в качестве ряда достигнутых целей, если понятие «цель» рассматривать шире, как приспособление к текущему комплексу внешних условий. Например, Казютинский пишет, «что «цель» – это не обязательно «сознательная цель», понятие цели применяется и по отношению к разного рода квазителеономическим системам. Например, кибернетика в качестве цели рассматривает конечное состояние, к которому стремится система» [32, c.176]. Но даже и в этом случае особая сущность человека будет выражаться в том, что он и внешние условия может менять в зависимости от поставленных целей. Таким образом, если цель (потребности) в организмических системах тянется на поводке за комплексом внешних условий, то цель в системах социальных, в принципе, может сама тянуть за поводок условия внешней среды. Только для человека цель представляется в виде высшей точки текущего уровня потребностей и не привязана жестко к текущим условиям среды, а является аттрактором (притягивающим множеством) прогрессивного развития как человека, так и общества в целом.
Таким образом, общественные системы характеризуются, прежде всего, целенаправленностью развития. Аналогично тому, как причинно-следственная петля обратной связи, основанная на процессах автокатализа, наследственной изменчивости и селективной роли внешней среды, по всей вероятности, привела к появлению жизни, точно так же и образование петли обратной связи, основанной на оценке результатов своих действий, привело к формированию человека. Ведь сознание, по сути, развивается лишь благодаря осознанию собственного бытия и окружения, значит, сознание творит само себя, а значит, оно и развивалось нелинейно.
Если понятие «цель» трактовать еще шире, как вещественное воплощение виртуального образа, тогда живые организмы, способные на материальное воплощение генетического кода, тоже могут считаться системами целенаправленными. Это лишний раз доказывает, что нет и не может быть ни одного жесткого атрибутивного признака какой-либо из системных групп, в противном случае было бы невозможно формирование вышестоящих систем из нижестоящих. И все же цель, в узком смысле этого слова, предполагает осознанность процесса визуализации виртуального образа. Осознанность целедостигаемого развития проявляется, прежде всего, в том, что человеком оценивается целесообразность предметного воплощения идеи. Иными словами, для человека информация приобретает ценностную значимость. Наш мозг отражает подобно зеркалу окружающую действительность, но фиксирует внимание только на самом ценном, отсеивая менее значимое. В противном случае сознание рискует потонуть в океане несущественных деталей. Наиболее прогрессивные представители животного мира в отдельных случаях способны не только целенаправленно вычленять полезную информацию и аккумулировать ее индивидуально, но и передавать ее последующим поколениям. Это во многом приближает их к целенаправленным системам. И все же полезность (ценность) информации в животном мире напрямую зависит только от оценки происшедшего события (например, поедание ядовитого животного или отравленной приманки). Только в собственно целенаправленных системах возможно прогнозирование – т.е. получение полезной информации без опоры на конкретный опыт. В целенаправленных системах информация может оцениваться не только в результате проверки опытом, но и сугубо виртуально, минуя стадию ее предметной реализации. В узком смысле этого термина ценность и определяется, прежде всего, в осознании степени значимости какой-либо информации, предмета или явления. Только высокоорганизованный разум способен оценивать невизуализированную информацию путем множественной экстраполяции вероятных событий. И не случайно Симпсон назвал способность к аккумулированию полезной информации, дающее несомненное адаптивное преимущество, «новой адаптивной зоной». Человек не только вторгается в обжитое экосистемное пространство, навязывая ему новые правила, но и открывает для себя качественно новую социокультурную функциональную экологическую нишу.
Другой фактор, характеризующий человека, – это самосознание, или рефлексия, и главное здесь не столько то, что человек осознает свое бытие, сколько то, что он его оценивает через эстетическую и, прежде всего, этическую призму своего «супер Эго».
В постсоветской литературе до сих пор делается акцент на роли труда как основной сущностной основе человека и человеческого общества. Разумеется, очевидные марксистские корни еще не говорят о ложности этого утверждения. Казалось бы, действительно, человек становится человеком в обществе, в общении. Основой общественных отношений, в свою очередь, является труд, следовательно, в труде заключается основная системообразующая, сущностная значимость человека.
Однако, во-первых, человек характеризуется наименьшей прагматичностью в ряду других существ, человека характеризует то, что он возвышается над простым удовлетворением собственных потребностей. Если в общественных отношениях доминирует труд, это также негативно сказывается на социализации личности, как и доминирование праздности (вспомним, к примеру, фантастическую утопию Г. Уэллса «Машина времени»). Обезьяне «Сизифу» так же трудно очеловечиться, как и обезьяне «Обломову». Наибольших успехов в социализации личности можно добиться в единстве этих составляющих. Исключения составляют лишь ситуации, когда праздность неотделима от труда. Некоторые творческие натуры наибольшее удовлетворение получают только в творческом труде, но этот факт как раз не исключает, а, напротив, подтверждает диалектический характер единства труда и праздности. Здесь можно найти аналогию с пригожинскими категориями «Хаоса» и «Логоса»: одно не может существовать без другого, и праздность такой же «двигатель» социальной эволюции, как и труд.
Во-вторых, труд, в том числе и общественно полезный, не является прерогативой человека. Если же говорить о сознательном труде, тогда здесь основным системообразующим началом будет выступать уже не труд, а сознание.
В-третьих, и это главное, труд основа общественных отношений, но ведь и труд имеет свою основу. Труд всегда есть средство достижения каких-либо целей. И именно осознанная целенаправленность действий человека является особым его качеством, присущим только ему, и именно осознанный целенаправленный труд привносит в трудовую деятельность системообразующие начала. Следовательно, сущностным, системообразующим началом нужно считать, прежде всего, целенаправленность развития. В общем-то к той же идее фактически пришел и Ф.Энгельс, который и понимал труд как способ удовлетворения потребностей, а значит, и стоящих перед человеком целей. «Люди привыкли объяснять свои действия из своего мышления, вместо того, чтобы объяснять их из своих потребностей, даже наиболее материалистически настроенные естествоиспытатели из школы Дарвина не могут еще составить себе ясного представления о происхождении человека, так как не видят той роли, которую играл при этом труд» [33, с.493–494]. Значит, труд является обязательным, но сопутствующим условием возникновения человека, сопутствующим для гораздо более важного и определяющего условия первичного социогенеза, а именно целенаправленности развития.
Даже если цель понимать широко, не связывая ее с осознанностью, то и тогда в животном мире цели ограничиваются удовлетворением текущих, сиюминутных потребностей. У них нет даже цели – выжить. Животные избегают боли и дискомфорта, не ведая о смерти. В более узком, антропологическом смысле труд следует понимать как осознанную целенаправленную деятельность, направленную на преобразование внешней среды или адаптацию к ней, с целью удовлетворения конкретных материальных, либо духовных потребностей. Следовательно, не столько труд создал человека, сколько создавался вместе с ним.
Если «наследственная изменчивость» и «естественный отбор» лежат в основе эволюции биологических систем, то основными факторами социальной эволюции являются «преемственность знания», «осознанное целедостижение текущего уровня потребностей» и «закономерный рост потребностей по мере их удовлетворения». Накопление и передача информации (преемственность знания) сами по себе недостаточны, для прогрессивного роста, без детерминирующей роли целевого селектора эволюции. Осознанное целедостижение текущего уровня потребностей является основным селектором прогрессивного развития социальных систем.
Потребности можно разделить на:
биологические (физиологические потребности – норма, комфорт – сверхнорма);
духовные (информация, красота, гармония, душевный комфорт – для данной категории норма);
амбициозные (потребность в признании своего первенства, стремление к власти или к распространению собственных идей).
Следствием того, что эволюция вышестоящих систем является частным случаем эволюции систем нижестоящих, с дополнительными ограничениями и возможностями, является в данном случае то, что низшая форма потребностей человека (физиологическая) является непосредственно вытекающей из селектора эволюции биологических систем – борьбы за существование.
П.В. Симонов выделяет еще и социальную форму потребностей [34]. Представляется все же, что во всех случаях все формы социальных потребностей можно свести либо к биологическим (стадный инстинкт, страх одиночества), либо к духовным (общение, обмен информацией и эмоциональное сопереживание), либо к амбициозным (самоутверждение для человека возможно только в обществе). У Симонова есть и весьма конструктивная идея, он все формы потребностей разделяет на потребности сохранения (нужды) и развития (роста). И действительно, потребности как биологические, так и духовные могут быть как системосберегающими, так и системообразующими. Первая форма гуманнее, вторая конструктивнее. В политике такой дуализм представлен двумя противодействующими силами: левое социальное крыло и правое утилитарное крыло. Ясно, что селектором развития могут служить только потребности развития, тогда как потребности сохранения служат целям сохранения достигнутого уровня развития, и это не только взаимоподавляющие, но и взаимостимулирующие силы.
Можно заключить, что в основе социальной эволюции лежат принципы и механизмы самоорганизации, приобретенные еще в антропогенезе, но социогенез, хоть и подчиняется некоторым законам развития антропогенеза, но не сводим к нему. Поэтому можно выделить как уникальные принципы самоорганизации для антропогенеза и социогенеза, так и всеобщие, лежащие в основе целостности и преемственности эволюции биологической и социальной.
Таким образом, можно выделить следующие движущие силы антропосоциогенеза:
естественный отбор – играл значимую роль лишь на начальных этапах;
половой отбор – играл более значимую роль и, что особенно характерно, для человеческих сообществ не меньшее, а может, даже и большее действие полового отбора, приходилось на женскую часть сообщества. В Новое время роль полового отбора начала также снижаться, о чем свидетельствует отмеченная антропологами начавшаяся тенденция к снижению полового диморфизма;
групповой отбор – играл, по-видимому, более значимую роль в эволюции человека, нежели естественный отбор. Частично продолжает действовать и сейчас, проявляясь в виде межэтнических, межгосударственных и религиозных войн. Однако уже является фактором не биологического, а социального детерминизма, поскольку ведет к отбору не биологически, а социально более удачных решений устойчивости;
инадаптивный прогресс – явление, которое мы обозначаем, как прогрессивное развитие, обусловленное выдавливанием в худшие условия, либо приобретением свойств, снижающих адаптивность, как, например, смещение родов на более ранние сроки, либо потеря волосяного покрова, при условии, если это не приводит к росту специализации. В отличие от явления инадаптивной специализации, описанного Ковалевским, инадаптивный прогресс играл положительную роль;
эффект защиты от популяционных мутаций – играл особенно значимую роль в эволюции человека, поскольку здесь вытеснение умеренно непохожих происходит не стихийно, под действием инстинктов, а сознательно. Особенно значимую роль данный фактор играл в процессах этногенеза. В настоящее время, в связи с общемировыми интеграционными процессами и гуманнизацией общества, данный фактор теряет свою роль. Данный фактор сменяет функциональную направленность с отторжения чуждой внешности на отторжение чуждой идеологии;
осознанное целедостижение текущего уровня потребностей – данный фактор прогрессивного развития является уже исключительной прерогативой социальной эволюции. Это основной и, по сути, единственный эволюционный фактор детерминистского характера в социальных системах. Все прочие либо потеряли свою роль (естественный отбор), либо служат уже только для сохранения этнических и в первую очередь социальных различий (эффект защиты от популяционных мутаций).
Человек – явление, безусловно, занимающее уникальное место в природе. Но человек – существо в то же время и биологическое, мы далеко ушли в своем развитии от дикой природы, но не потеряли с ней связь. Не стоит никогда забывать об этом, иначе природа не простит нам наше технократическое тщеславие. Важно не только акцентировать внимание на особенностях, выделяющих человека из общего древа жизни, но и искать всеобщие грани мирозданья, найти для человека собственное место в эволюционной пирамиде, а не возвышать его над природой.
1.3. Роль «альтруистической» кооперации и «эгоистической» дифференциации в эволюционном процессе
Противники эволюционного подхода к человеку часто апеллируют к антигуманности дарвиновской «борьбы за существование», распространяя ее на общество. Это проистекает от незнания теории биологической эволюции, которую нельзя отождествлять с еще только разрабатываемой теорией социальной эволюции. И точно так же нельзя биологическую эволюцию сводить только к «эгоистической» борьбе за существование.
Эволюционный подход к проблеме обоснования мотивационных механизмов поведения людей восходит к работам Герберта Спенсера и социал-дарвинистов. Спенсер связывал индивидуализм (эгоизм) с дифференциальными процессами, тогда как альтруизм с интеграционными, кооперативными началами общественного бытия. Спенсер – современник Дарвина, но его эволюционная этика не связанна с влиянием знаменитого дарвиновского труда «Происхождение видов». Его идеи были высказаны несколько раньше дарвиновских, и более того, сам Дарвин позаимствовал у Спенсера классическое выражение «выживание наиболее приспособленных». В конце XIX века идеи Спенсера распространились среди многих богатых промышленников Европы и Америки. Он использовал концепцию естественного отбора как этическое основание принципа свободного предпринимательства. Социальный дарвинизм Спенсера использовался для оправдания эксплуатации бедноты. Многие фабриканты того времени с готовностью приняли эту теорию, считая ее научным доказательством своего образа жизни и действий. Как ни странно, сторонники марксизма также называли себя социальными дарвинистами, проводя параллель между борьбой за существование в природе и борьбой рабочего класса. Немецкий эволюционист Эрнст Геккель считал, что в своих действиях люди должны быть подобны природе и неважно, насколько они при этом безжалостны. Через несколько лет после смерти Геккеля Адольф Гитлер и его последователи-нацисты сделали эту извращенную точку зрения частью официальной государственной политики, направленной на уничтожение «неприспособленных» рас. Гитлер говорил: «Природа жестока, поэтому и я жесток» [3].
Подход социал-дарвинистов основывался на дарвиновской теории биологической эволюции и потому изначально был откровенно редукционистским [14]. Законы «естественного отбора» и «борьбы за существование» настолько не вписывались в гуманистическую сущностную основу нравственных принципов, что это не могло не подорвать авторитет эволюционной этики. Эволюцию, в том числе и социальную, стали воспринимать как «окровавленные клыки и когти природы», по образному выражению поэта Теннисона. Известен такой исторический факт, когда студент-медик Лебье, убивший старую молочницу, обвинил во всем Дарвина и его учение. Крупнейший эволюционист того времени Томас Хаксли утверждал, что нравственные принципы невыводимы из законов биологической эволюции и, по всей видимости, происходят из сфер, недоступных человеческому разуму [36]. Вот что пишет по этому поводу М. Рьюз: «Часто думают, как думал, например, Т. Хаксли, что наше моральное чувство с необходимостью должно противостоять нашему животному естеству, поскольку естественный отбор зависит от успеха в борьбе за жизнь, и что, следовательно, в наследство от эволюции нам достается эгоистическая агрессивность. Отсюда представляется резонным предположить, что поскольку мы суть моральные существа, то это, должно быть, вследствие нашей способности каким-то образом сопротивляться и побеждать зверя, сидящего внутри нас» [37, с.36]. Следует только уточнить, что сам Рьюз не разделял данную точку зрения.
В целом, разделяя озабоченность многих исследователей по поводу попыток механистического переноса теории «борьбы за существование» на общественные системы, мы считаем, что этические принципы все же имеют эволюционную основу.
Во-первых, биологическая эволюция это не только «борьба за существование», но и кооперативность и взаимопомощь, и, во-вторых, несостоятельность методологии биологического эволюционизма в этике вовсе не означает несостоятельности методологии эволюционной этики вообще. Мы не случайно вспомнили уже, казалось бы, забытые концепции пионеров эволюционной этики, поскольку сейчас, когда, казалось бы, очевидна несостоятельность прямой экстраполяции закономерностей биологической эволюции на общественные системы, эволюционная этика социал-дарвинистов не только не принадлежит истории, но и переживает свое второе рождение. По пути абсолютизации биологической (генной) природы культурной эволюции пошли и представители ранней, классической социобиологии (Э. Уилсон и Р. Александер). Особый интерес представляет подход другого социобиолога Р. Докинза к данной проблеме, поэтому его взгляд на социальную эволюцию будет рассмотрен отдельно.
Основатель социобиологии Эдвард О. Уилсон утверждает, в частности, что именно эволюционирующему разуму принадлежит основная роль, предоставляющая все более широкие возможности выживания и размножения. Для столь сильного утверждения необходимо, по крайней мере, располагать фактами, подтверждающими биологические преимущества прогрессивного роста в культурной сфере эволюции человека. Отсюда понятна ирония даже его ближайшего единомышленника, известного канадского философа Рьюза: «…никто даже и не думает, что человек с лучшей научной теорией будет более способен к воспроизводству. В конце концов, Коперник, Декарт и Ньютон… умерли бездетными» [38, с.27]. Впрочем, Рьюз вовсе не отказывается от биологической природы социальной этики. Он делает далеко идущее заявление: «…вероятно, настало время изъять этическую проблематику у философов и «биологизировать» ее» [37, с.45].
Социобиология в своем дальнейшем развитии отошла от столь однозначной интерпретации зависимости человеческого познания и этического поведения, от генной природы наследственности. Но все же базовым, определяющим началом общественной культуры социобиологи считают геном человека. В основе развития культуры социобиология ставит тезис о геннокультурной коэволюции. Докинз в своих выводах опирается на культурогенную природу человеческого эгоизма [39]. Рьюз, напротив, склонен выделять в качестве первоосновы биологические начала человеческого альтруизма. Можно, конечно, взять на вооружение понятие «культуроген» [15], употребляемое социобиологами, но никак не стоит при этом ставить его в жесткую зависимость от генной природы человека. Однако строить непреодолимую пропасть между эволюционной этикой общества и альтруистическим поведением в животном мире тоже не следует.
Генетические предрасположенности, или так называемые эпигенетические правила, конечно же, оказывают существенное влияние на культурную эволюцию, но сами они не подвержены направленным эволюционным изменениям. С момента как отбор биологически более удачных решений сменился отбором социально более удачных решений, человек эволюционирует не как часть биологической системы, а как часть социума. Конечно же, здесь речь может идти о невозможности направленных эволюционных изменений в контексте биологической методологии. В известной мере можно говорить о направленной биосоциальной коэволюции. Но она не может быть сведена по своей методологии ни к популяционно-генетическому неодарвинизму [16], ни к модификационному неоламаркизму. Последний, после печально известного «лысенковского» периода развития отечественной биологии, вновь приобретает популярность. Таким образом, для решения проблемы эволюционной обусловленности эгоистического и альтруистического поведений следует выявить, прежде всего, общие принципы их формирования в живой природе и обществе и эксплицировать их качественно различные механизмы.
Дивергентная (эгоистическая) эволюция является результатом действия процессов дифференциации, разграничивающей ресурсопотребление (например, цепи питания в биоценозах). Для того чтобы надсистема могла вместить максимальное количество систем, они должны максимально отличаться, чтобы иметь различный спектр потребляемых ресурсов. На данную закономерность обратил внимание еще Ч. Дарвин, объясняя причины величайшего многообразия органического мира: «Естественный отбор ведет также к расхождению признаков, потому что чем более органические существа различаются по строению, привычкам и конституции, тем большее их число может просуществовать на данной площади» [8, с.95].
Значительную роль в эволюционных процессах играет и так называемая дифференциация, разграничивающая долю участия в общем ресурсопотреблении (взаимопомощь), приводящая к альтруистической кооперации. Первая форма дифференциации приводит к росту спектра потребляемых ресурсов путем включения в оборот новых ее форм, вторая связана с возрастанием эффективности потребления уже используемых ресурсов. Первая форма способствует адаптивной радиации и разделению, вторая приводит к альтруистической интеграции и объединению. Не следует считать, что дивергентная эволюция не приводит к интеграции. Во-первых, разделение ресурсопотребления не исключает взаимовлияния между разделяемыми системами, особенно наглядно это можно продемонстрировать на примере антагонистической дифференциации, как частного случая дивергентной дифференциации (например, системы «хищник – жертва» и «паразит – хозяин», правоохранительные органы – преступность и т.д.). Во-вторых, обе формы дифференциации тесно взаимосвязаны и фактически никогда не протекают одна без другой. Но в целом разобщающая дифференциация в большей степени способствует дивергенции, а дифференциация взаимообмена – кооперации. Первый тип дифференциации основан на системообразующих, «эгоистических» началах, второй – на системосберегающих, «альтруистических».
Эгоизм и альтруизм обычно воспринимаются как два непримиримых полюса, отражающих борьбу хаоса и логоса, личного и общественного интереса, индивидуализма и взаимопомощи, непримиримой вражды и созидательного гуманизма. Но так ли непримиримы эти два полюса человеческого поведения? В действительности они настолько тесно переплетаются, что иногда даже невозможно обнаружить разграничивающую их грань. Вполне допустимо предположить, что альтруистическая эволюция может быть составной частью эволюции эгоистической и наоборот. В таком случае дарвиновская «эгоистическая» дивергенция и кропоткинская «альтруистическая» кооперация могут протекать в рамках единого эволюционного процесса. И действительно, Дарвин вовсе не отвергал альтруистическую сторону эволюционных процессов, в частности, он писал, что «те общества, которые имели наибольшее число сочувствующих друг другу членов, должны были процветать и оставлять после себя многочисленное потомство» [17]. Кропоткин, в свою очередь, не писал о взаимопомощи как о единственном эволюционном факторе, а считал, что «взаимная помощь – настолько же закон природы, как и взаимная борьба» [40, с.32].
Эгоизм в его наиболее крайней форме – это, прежде всего, стремление к личной выгоде без учета возможного ущерба для других. Но являются ли в таком случае дарвиновские принципы «борьбы за существование» в полной мере эгоистичными, как утверждают сторонники альтруистической эволюции. Ведь эволюционная значимость «борьбы за существование» зависит, в конечном счете, от количества жизнеспособного потомства, значит первый шаг к «альтруизму» был сделан уже у самых истоков эволюции органического мира. Отсюда следует, что практически уже изначально эволюция смещалась от максимизации личной выгоды к максимизации выгоды собственного потомства.
Альтруизм же – это бескорыстная помощь без учета личного ущерба или даже летального исхода для альтруиста. Но ведь и альтруизм всегда основан на «личной» выгоде. Личной в более широком смысле, применительно к той надструктуре, которую представляет альтруист. Например, альтруистическое поведение пчелы, погибающей после укуса, можно свести к эгоизму популяции (улья или роя), жестоко ранящей или даже убивающей непрошеного гостя, отделавшись при этом «царапиной» в виде потери одной особи. Таким образом, противоречия, возникающие между эгоистической и альтруистической эволюцией, оказываются разрешимыми с переходом от индивидуального отбора к надындивидуальному, или групповому. Конечно же, эволюционные механизмы в последнем случае будут несколько отличаться. В данном случае материалом для наследственной изменчивости будет служить не генотип особи, а генофонд групп особей.
При этом на первый план выдвигаются вопросы, связанные с причинами, определяющими соотношение эгоистического и альтруистического поведений в популяциях. В одних случаях альтруистическое поведение ограничивается стремлением к максимизации собственного потомства. В других – отдельные особи выполняют функции максимизации воспроизводства популяции, не имея возможности воспроизводства собственной генетической линии. Можно предположить, что возрастание роли альтруистического поведения находится в прямой зависимости от глубины интеграции популяций, а следовательно, и от глубины функциональной дифференциации ее составляющих элементов, которая, как известно, является одновременно и причиной, и следствием интеграции.
Для обоснования данного предположения необходимо установление связи динамики интеграционных процессов и альтруистического поведения. На начальных этапах системного развития основной движущей силой прогрессивного роста можно считать«позитивный эгоизм», когда каждый элемент, обеспечивая собственные интересы и интересы своего потомства, тем самым обеспечивает и интересы системы в целом. В этот период система, как правило, интенсивно растет и путем агрессивной экспансии, захватывает все большую как пространственную, так и функциональную нишу, ранее занимаемую прочими системами. Это достигается не только путем количественного роста, но и качественного развития, когда с целью все большего охвата ниш система дробится на все более разнообразные подструктуры. Все эти процессы характеризуют так называемую дивергентную, «эгоистическую» эволюцию, впервые описанную для биологических систем Дарвином и Уоллесом. Но как протекает дальнейшее системное развитие после насыщения ниш в достаточно стабильных условиях?
В новых условиях системосберегающие начала постепенно начинают превалировать над системообразующими, стабилизирующий отбор над направленным и структуросохраняющее альтруистическое поведение над структурообразующим эгоистическим.
Следует только иметь в виду, что деление факторов на системообразующие и системосберегающие не может быть жестким. В организмических и социальных системах вообще невозможно жесткое разграничение эволюционирующих свойств и факторов. Системообразующие факторы на элементном уровне могут выступать как системосберегающие на уровне системы. К примеру, известно, что в условиях гипоксии [17] активизируется работа кроветворных органов и, как следствие, увеличивается количество эритроцитов. На тканевом уровне данный процесс характеризуется как системообразующий фактор, тогда как на организменном выступает в качестве системосберегающего фактора.
В условиях, когда рост жизненного пространства уже практически невозможен, системное развитие не останавливается, но проявляет себя уже не в расширении функциональной ниши, а во все более эффективном ее использовании. Вот здесь уже дифференциация системы будет проявлять себя не в ориентации на все более различные ресурсы («эгоистическая» дифференциация), а в разделении степени участия в совместном обороте общих ресурсов («альтруистическая» кооперация). Постоянно при этом возрастает взаимозависимость между элементами. Слабая внутрипопуляционная зависимость живых систем постепенно перерастает в жестко сплоченный псевдоорганизм (вольвокс, сифонофоры, общественные насекомые). Впрочем, интегрируются не только особи одного вида (колониальность), но и межвидовые сообщества (симбиоз).
Обычно подобными фактами и ограничиваются приводимые примеры альтруистической кооперации для живых систем различными авторами. Однако наиболее ярким примером глубочайшей альтруистической кооперации служат не глубоко интегрированные колонии, а высшие многоклеточные как пример надклеточной кооперативной системы. Эпителиальные клетки, постоянно гибнущие от соприкосновения с внешней средой, но спасающие организм от ее агрессивного воздействия, тромбоциты, гибнущие при образовании тромбов, но останавливающие кровотечение, «бесплодные» (безъядерные) эритроциты, живущие только во благо целостного организма (аналог бесплодных рабочих особей у общественных насекомых). При продолжительном голодании организм как бы начинает пожирать сам себя, переваривая собственные ткани, в строгом соответствии с субординационной иерархией значимости. Что это, клеточный «альтруизм» [18] или организменный «эгоизм»? И действительно, вряд ли будет плодотворна установка жестких разграничивающих барьеров между организмом и сообществом организмов. В первом случае «альтруизм» якобы естествен, во втором якобы парадоксален. Но ведь организм (имеется в виду организм многоклеточных) – это тоже клеточное сообщество, и даже здесь победа «альтруистической кооперации» не абсолютна. Как пишет К. Уоддингтон, «каталитические процессы синтеза, требующие одних и тех же субстратов и специфически катализирующие или угнетающие друг друга, формально обладают теми же свойствами, что и популяции различных видов животных, конкурирующих друг с другом за одну и туже пищу. Здесь тоже есть свои хищники и свои жертвы» [41].
Проблема эволюционной целесообразности альтруизма разрешается после того, как колонии одноклеточных интегрируются в единый организм. Единый как генетически (благодаря происхождению от одной общей зиготы), так и в качестве субъекта эволюционного процесса. Следовательно, можно заключить, что альтруистическое поведение находится в прямой зависимости от глубины интеграции системы. Чем глубже координационные и, в особенности, субординационные межэлементные связи системы, тем более естественны альтруистические формы взаимодействия. Естественным следствием интеграционной взаимозависимости между различными элементами системы является ограничение их свободы, с которой теснейшим образом коррелирует альтруистическая эволюция элементов, причем в обратной зависимости. По иронии судьбы, одним из первых, кто поставил на первый план альтруистическую сторону эволюционных процессов, был анархист П.А.Кропоткин с его стремлением к абсолютной свободе личности.
Эволюционные механизмы формирования альтруистического поведения для живых систем еще не достаточно ясны, но и не являются проблемой, требующей коренной перестройки эволюционного учения Дарвина. Логика и факты говорят, что альтруистическое поведение можно объяснить с позиции «эгоистичной» эволюции.
Как же «эгоистичная» эволюция могла породить формы, способные на неосознанный альтруизм? Конечно, единицей эволюционного процесса является популяция, но результат естественного отбора проявляет себя именно благодаря закреплению благоприобретенных признаков в отдельных особях. «Альтруистический ген» для отдельного индивидуума никак нельзя считать благоприобретенным. Конечно, мутационный процесс постоянно может порождать гены альтруистического поведения, но как может прогрессировать альтруистическая форма поведения, не имеющая «эгоистичной» целесообразности?
Один из вариантов решения данного парадокса предлагается, в частности, Д. Гамильтоном [42, с.75–77]. Допустим, у родительской особи есть ген самопожертвования, направленный на сохранение собственного потомства. Какова вероятность того, что акт самопожертвования, направленный на сохранение собственного потомства, будет способствовать возрастанию частоты данного гена? Коэффициент родства (rl) у прямого потомства (сибсы) будет 0,5 [19], у следующих по степени родства ближайших родичей 0,25 (полусибсы), двоюродные сибсы, в свою очередь, будут иметь коэффициент 0,125 и т. д. По Гамильтону, частота гена альтруистического поведения может возрастать, в случае если коэффициент rl будет больше величины C/B, где C – величина снижения шанса на выживание носителя альтруистического гена и B – величина повышения шансов на выживание особей, на которых направленно альтруистическое поведение.
В действительности данная схема предельно упрощена. На эффективность альтруистического поведения влияет и количество возможных успешных генераций как у носителя альтруистического поведения, так и у его потомства, и вероятность успешного фенотипического проявления гена альтруистического поведения [20], и множество других факторов стохастического свойства. Кроме того, Гамильтон оценивает вариант с доминантной мутацией, приводящей к образованию гена альтруистического поведения, однако известно, что подавляющая доля мутаций рецессивна. Реально можно рассчитывать на эволюционный успех альтруистического поведения только в случаях, когда частоты контролирующего этот признак гена превышают определенный минимальный пороговый уровень, особенно если он рецессивен. В противном случае слишком велика вероятность того, что альтруистический ген попросту ассимилируется «генами-эгоистами».
Таким образом, родственное альтруистическое поведение вполне может быть объяснимо с позиции эгоистичной эволюции. Дж. Холдейн, впервые предложивший термин «альтруистическое поведение» применительно к живым системам, сказал как-то, что он хотел бы умереть ради спасения восьми двоюродных братьев и сестер (rl 0,125·8 = 1), т.е. он, таким образом, оправдает, с точки зрения теории биологической эволюции, свою жизнь. Теория Гамильтона объясняет и тот факт, когда в некоторых примитивных обществах, в которых высока частота адюльтера, дядя по линии матери играет более значимую роль в воспитании детей, чем отец.
Решение, предложенное Гамильтоном, очевидно, но оно объясняет лишь родственное альтруистическое поведение, связанное с самопожертвованием во имя сохранения и упрочения собственной генетической линии. Неродственное альтруистическое поведение, связанное с приобретением свойств, полезных для популяции и не несущих полезной нагрузки непосредственно для особи и ее потомства (бесплодные рабочие особи, уход за чужим потомством, межвидовой альтруизм и т.д.), гораздо сложнее объяснить. Р. Трайверс предложил модель реципроктного альтруистического поведения, согласно которой особь А, помогая особи Б, будет способствовать преимуществу своей генетической линии в том случае, если особь Б впоследствии будет склонна ответить тем же. Обман особи Б может быть невыгоден, поскольку в следующий раз она такую помощь от особи А может уже не получить. Такая модель «эгоистичного альтруизма» не только возможна, но даже уже зарегистрирована, например, у павианов [12, с.205–206]. Один павиан чешет другого, удаляя паразитов из недоступных для последнего мест, потому что потом вычесывать будут его. Чтобы доказать логичность этого предположения, Трайверс использовал игру на принятие решения «Дилемма заключенного». В этой игре два сообщника по одному преступлению были арестованы и разведены по разным камерам для допроса. Для осуждения их за большое преступление недостает улик, однако они однозначно получают по году тюрьмы за мелкое преступление. Следователь, желая добиться признания в серьезном преступлении, предлагает каждому заключенному следующее: «Если ты признаешься, а твой сообщник – нет, я сделаю так, что тебе дадут условный срок, а твоего напарника посадят согласно твоим показаниям на десять лет. Если ты не признаешься, а твой партнер расколется, на десять лет посадят тебя. Если вы оба признаетесь, вам дадут по три года тюрьмы». Для играющих предлагается выбрать между личной выгодой (предать товарища-заключенного) и альтруизмом (быть заодно с товарищем и не признаваться). Если один игрок предает другого, срок его заключения может быть равен либо нулю, либо трем годам, в зависимости от действий другого игрока. При выборе предательства средний проигрыш составит 1,5 года. Если игрок решает не сознаваться, его посадят либо на год, либо на 10 лет, и тогда средний проигрыш составит 5,5 года. Очевидно, что предательство – лучшая (в плане личного интереса) стратегия. Однако оптимальная стратегия кардинально изменяется, когда в игру играют несколько раз с одним и тем же игроком. Такая версия называется «Итерированная дилемма заключенного» [3]. Ведь в последнем случае заключенные гарантированно получат только 1 год (если будут уверенны в том, что напарник не выдаст), в сравнении со средним проигрышем в 1,5 года. Таким образом, даже для преступников устоявшиеся «моральные» («альтруистические») принципы могут быть эволюционно выгодны.
Однако такой реципрокный альтруизм возможен только у людей и высших животных, способных запоминать поведение сородичей. Как же объяснить неродственный или даже межвидовой альтруизм у менее совершенных жизненных форм? Очевидного решения еще не найдено, однако можно предположить, что чем более интегрирована и генетически единообразна популяция, тем выше вероятность «общественного альтруизма». При определенных значениях указанных показателей, когда коэффициент rl между многими особями внутри популяции будет не ниже 0,125, и они будут находиться в тесной функциональной взаимозависимости, «общественный альтруизм» можно будет объяснить даже аналогично модели Гамильтона. И не случайно явление общественного альтруизма чаще отмечается в наиболее интегрированных популяциях, в которых к тому же значительная часть сообщества является потомством одной женской особи: термиты, муравьи, пчелы.
В действительности эффективность альтруистического поведения зависит непосредственно не от коэффициента родства (rl), а от вероятности наличия такого же альтруистического гена у особей, на которых оно направлено. Данные показатели хоть и тесно коррелируют, но далеко не всегда совпадают [21], поэтому если представить себе популяцию, в которой частота встречаемости гена «общественного альтруизма» будет изначально высока, то в такой популяции его частота вполне может поддерживаться на постоянном уровне и даже, при определенных условиях, возрастать. Более того, если учесть что популяционная частота альтруистического гена непосредственно влияет на его эффективность (причинно-следственная петля) [22], тогда со всей очевидностью мы приходим к возможности его нелинейного, экспоненциального развития после достижения определенного порога частот «гена альтруизма» (точки бифуркации). Но как объяснить саму возможность достижения такого порога в популяции?
Можно предположить, например, альтруистическую инверсию эгоистичной формы поведения, которая когда-то имела индивидуальную выгоду, в изменившихся условиях индивидуальный вред компенсировался общей пользой для популяции (преадаптивное формирование поведенческих реакций). Например, укус пчелой млекопитающего для пчелы смертелен, но ее жало беспоследственно протыкает хитин насекомых (беспоследственно для пчелы, а не другого насекомого). Пока пчелы не соприкоснулись с млекопитающими, данная форма агрессивной реакции имела функцию самозащиты и была «эгоистичной». Или такой пример, когда куропатка, «притворяясь» раненной, уводит хищника от выводка. Здесь проявляется результат единовременного действия взаимоисключающих форм поведения на основе инстинкта охраны потомства (родственный альтруизм) и инстинкта самосохранения (эгоизм). Можно предположить также образование парой особей с альтруистическим геном новой популяции («принцип основателя»). Образование популяций с допустимым порогом частот «альтруистического гена» можно объяснить и случайными колебаниями частот генов в малых популяциях («дрейф генов» [23]) и, конечно же, «групповым отбором», когда субъектами эволюционного процесса выступают уже не особи, а группы особей.
Наиболее ортодоксальные дарвинисты (например Докинз) возражают, что даже если образуется генетически чистая «альтруистическая популяция», то и в этом случае иммигранты с «эгоистичным геном» быстро сведут все «альтруистические завоевания» на нет. Но ведь «альтруистический ген» проявляет себя не так уж и часто и уж совсем редко приводит к избирательному уничтожению альтруиста [24], поэтому шансов на реализацию своих генетических преимуществ у «эгоиста» не так уж и много, эгоизм ведь не спасает вообще от естественного отбора. И уж та незначительно большая вероятность генной экспансии «эгоистов», в сравнении с «альтруистами», вполне может нейтрализоваться групповым отбором, который выражается в большей вероятности гибели популяций, в которых «победил эгоизм». К тому же, как уже отмечалось, накопление «альтруистического гена» после прохождения бифуркационного порога носит нелинейный характер, и в таких условиях пришлые «эгоисты» уже ничего качественно изменить не смогут. Воде искра не страшна, но пламя не погасят капли воды, в этом сущность нелинейности развития и в этом сущность проявления положительной и отрицательной обратной связи. К тому же сохранению генетической чистоты альтруистических линий может способствовать «эффект защиты от популяционных мутаций» (отрицательная обратная связь). В последнем случае роль популяционных мутаций будут выполнять иммигранты с эгоистичным геном. Кто знает, может быть, современная правовая система имеет гораздо более глубокие корни? Может, началом ей послужила практика изгнания из общины носителей «эгоистичных» генов, противопоставивших себя прочим членам сообщества?
Важно подчеркнуть, что описанные закономерности не только не отменяют дарвиновскую дивергентную «эгоистичную» эволюцию, но и в некотором смысле вытекают из нее.
Если свести формирование неродственного альтруистического поведения на видовом уровне к сугубо стохастическим эволюционным факторам (мутационная изменчивость, «дрейф генов» и «принцип основателя»), тогда будет неясно, как альтруистическое поведение приобрело столь всеобъемлющий характер. По-видимому, все эти процессы должны протекать в рамках определенных закономерностей, отражающих стремление организмических систем к максимально возможной экспансии в пространстве. И действительно, пока для развития биологических систем достаточно простора, упрочение генетической линии проявляет себя в «эгоистичной» дивергенции, когда же система насыщается, на первый план выходит не рост, а сохранение и укрепление, выражающееся в альтруистической кооперации. Поэтому можно заключить, что случайно формирующиеся альтруистические формы поведения, в конечном счете, детерминируются отбором как единственно возможные эволюционные решения. Таким образом, групповой отбор может проявлять себя и на межвидовом уровне, что, в конечном счете, может привести к формированию межвидового альтруистического поведения.
Изучение альтруистического поведения в животном мире особенно важно для понимания смысла и мотивационной значимости эгоизма и альтруизма в поведении человека. При всей несводимости социальной сферы к их биологическим истокам, нельзя все же отрицать и их определенную общность. Однако не стоит при этом забывать, что человек фактически не подвержен направленному воздействию факторов биологической эволюции, и здесь, на уровне генетическом, мы имеем только то, что получили еще в биологической фазе. Например, такие глубоко заложенные альтруистические принципы, как неприятие неоправданного насилия и любовь к детям. Но если мы стали в большей степени альтруистами, чем наши доисторические предки, значит, данный альтруизм уже имел небиологическое происхождение. Эволюционная этика общества имеет надбиологическую природу и закрепляется не генетически, а путем обучения, воспитания и посредством накопления позитивного, этико-культурологического опыта. Причем не только в отдельных людях, но и в общественных институтах (церковь, правовые и учебно-воспитательные институты, средства массовой информации и т.д.). Именно это имел в виду крупнейший генетик-эволюционист Франциско Х. Айала, утверждая, что наши этические склонности, убеждения и поступки суть всего лишь эпифеномены, надстраивающиеся над этими биологически сформировавшимися способностями. Так, этика (и вообще моральность) принадлежит к культурной стороне существования людей – стороне, которая в известном смысле восседает на вершине нашей биологии [37, с.45].
Впрочем, осознанная «альтруистическая» эволюция является феноменом только исходя из нашей ложной убежденности в эгоистической нецелесообразности этического поведения. Например, известный феномен избирателя. Мы идем голосовать, заранее зная, что наш голос, в единичном числе, ничего не решает. Можно привести также известную дилемму «дорожного зайца» (free-rider problem) – если несколько человек должны нести бревно, то наиболее рационально мыслящий должен лишь имитировать нагрузку, минимизируя затраты и тем самым максимизируя выгоду [43, с.40]. Мы тратим время и силы, никак не рассчитывая на адекватную личную пользу. Что это, как не феномен общественного альтруизма? Казалось бы, это подтверждает пресловутую кантовскую ноуменальность этики. Если избирателя либо работника, переносящего бревно, воспринимать только как единичного субъекта, тогда этот парадокс будет принципиально неразрешим исходя из позиции эгоистической эволюции. Но человек как часть общественной системы формирует свои поступки исходя и из интересов своей общественной надструктуры. В предельно интегрированном обществе личный интерес может окончательно раствориться в общественном.
И все же осознанный альтруизм гораздо естественнее и понятнее неосознанного. Если для поддержания частот альтруистического гена в животном мире необходимо некоторое минимальное пороговое значение, то для «культурогена» такой проблемы не существует благодаря способности человека к осознанной фильтрации более ценной информации.
Для человеческого общества также неверно было бы жестко противопоставлять альтруистические и эгоистические формы поведения. Такие, казалось бы, взаимоисключающие понятия, как альтруизм и эгоизм, могут выражать одно и то же действие в зависимости от того, на каком уровне они рассматриваются. При этом альтруизм выступает как системосберегающий фактор, позитивный эгоизм – как системообразующий. Альтруистические поступки отдельного субъекта, являясь системосберегающим фактором для общественной подструктуры, представляют тот же скрытый позитивный эгоизм на надструктурном уровне.
В качестве примеров можно привести многие факты, когда на рынке делают значительные скидки землякам, родственникам, единоверцам, представителям своей народности. Либо могут предоставлять льготные кредиты, аренду на выгодных условиях, лоббирование представителями диаспор интересов своей прародины и т.д. На элементарном, субъектном уровне все эти альтруистические поступки экономически не оправданы, но позитивны (эгоистичны) для надсистемы, элементом которой выступает в данном случае конкретный человек. Роль альтруистических факторов (системосберегающих) особенно сильна в общественных структурах национальных меньшинств. Нетрудно проследить и обратную связь, когда все более гуманная государственная система и материальное изобилие могут стимулировать развитие эгоистических начал субъектов.
Факты из истории свидетельствуют, что часто даже наиболее бесчеловечные проявления «позитивного эгоизма» (истребляли население в захваченных территориях, избавлялись от слабых, детей, стариков и т.д.) оказывались проявлением общественного альтруизма, т.к. это избавляло население от голодной смерти или братоубийственной войны. Остается только «порадоваться», что столь радикальные проявления позитивного эгоизма свойственны только «примитивным» общественным структурам.
Однако следствием действия системосохраняющих факторов в социальных группах может быть не только альтруизм. Альтруизм в качестве орудия системосохранения, как правило, направлен внутрь системы. Вовне, для поддержания системосохранения, субъектами различных социальных групп могут исходить прямо противоположные чувства, вплоть до ненависти и прямой агрессии. И чем социальные подсистемы ближе по свойствам, тем агрессивнее могут быть взаимные действия (интересы пересекаются в первую очередь в наиболее близких социальных подсистемах). В случае же столкновения интересов с качественно иной социальной надструктурой, близкородственные общности могут сменить ненависть на солидарность и объединиться в борьбе за сохранение своей надсистемы. Внутренними причинами неприязни могут являться определенные преимущества той или иной социальной группы, связанные с субординационными системными процессами, либо с наличием определенных внутренних качеств, дающих возможность более эффективного доступа к благам. Преимущественное положение некоторых социальных групп, связанное с внутренними особенностями, может выражаться также в большем трудолюбии и прагматизме отдельных этносов, что может привести к их несколько более привилегированному, в материальном отношении, положению. Ясно что это не вызовет симпатии некоторых представителей более старых и пассивных этносов. Неприязнь малых этносов, в свою очередь, может быть связана со стремлением к противодействию ассимиляции доминирующими этносами. Молодая культура, в свою очередь, может беспокоить более старые и потому более ровные по своему характеру этносы своим радикализмом и агрессивностью. И все же процессы системосбережения необходимы, но предпочтительней их реализация посредством стремления к сохранению своей системы, а не посредством разрушения и отторжения иной, пусть даже и чуждой.
В связи с тенденциями к глобальной стабилизации и интеграции в современных обществах наиболее крайние проявления насилия возможны чаще всего в нестабильных режимах в период их формирования или разложения, либо в замкнутых государственных системах, отгородившихся от международного сообщества. Последних становится все меньше в связи с мировыми интеграционными процессами.
Итак, можно заключить, что как в природе, так и в обществе альтруистические формы взаимодействия если и не прямо вытекают, то, во всяком случае, коррелируют с глубиной системной кооперативности. Если же прогрессивное развитие сводится к ее упрочению, то и развитие общества неизбежно должно быть связано с постоянным возрастанием роли альтруистического системосбережения над эгоистическим системообразованием. Вместе с тем необходимо учитывать, что диференциально-интегративные процессы не сводятся к равномерному кумулятивному развитию. И именно поэтому тенденции к смещению от эгоистической дивергенции к альтруистической кооперации далеко не всегда столь очевидны.
Еще Спенсер прочил наступление эпохи гармоничного сочетания альтруизма и эгоизма в общественном устройстве, да и концепции ноосферы как у Вернадского, так и у Тейяра де Шардена в целом несут ту же идею. Общественное устройство, основанное на альтруизме, – это, прежде всего, приоритет стабильности и сохранения, тогда как общество, ориентированное на «позитивный эгоизм», имеет приоритет развития и созидания. Линия «позитивного эгоизма» – это самоорганизационное развитие, тогда как альтруистическое общество – это регулируемое развитие. Поэтому «социализация» общественной жизни находит свое наибольшее оправдание на этапах квазистабильного функционирования общественной системы.
Мир, основанный исключительно на альтруистических началах, так же опасен и обречен, как и мир, основанный на «войне всех против всех», и хотя мы признаем, что в отдельные периоды истории приоритетным должен быть либо «созидательный позитивный эгоизм», либо «сохраняющий альтруизм», в целом оба начала должны всегда присутствовать в общественной жизни как частные проявления системосберегающих и системообразующих факторов развития сложных эволюционирующих систем.
1.4. Эволюционный подход Ричарда Докинза к человеку
Биологом, создавшим, на наш взгляд, наиболее любопытную модель эволюционирования человека, экстраполированной от дарвинизма, но в целом не являющейся редукционистским обобщением модели биологической самоорганизации на системы социальной природы, является Докинз, с его концепцией мимов и репликаторов. Поэтому подробнее рассмотрим его взгляды на закономерности эволюции человека.
Основное внимание в своей работе «Эгоистичный ген» [39] Докинз уделяет органической эволюции. Главной его идеей является утверждение о том, что эволюция живых организмов, и человека в том числе, является следствием стремления генов к саморепликации. Такой вывод, согласно которому все живое обязано своим теперешним разнообразием «эгоистичному гену», эволюционирующему в своих собственных интересах, на первый взгляд может показаться парадоксальным. Но в действительности эта разница – между эволюцией, как результат детерминации естественным отбором генов, либо целостных организмов – не столь принципиальна. И действительно, Докинз является убежденным дарвинистом. В данном случае нас интересует прежде всего распространение его концепции на эволюцию человека. Очевидно, что человек вырвался из оков генетической эволюции и Докинз прекрасно это сознает, но в культурной эволюции человека есть аналог «эгоистичного гена» – это «культуроген», согласно основателю социобиологии Эдварду О. Уилсону, или «мим», как его трактует Докинз. Мим – это минимальная целостная концептуальная единица, хранящаяся в умах людей, а также внешних носителях информации, и распространяющаяся посредством общения либо других способах передачи информации.
Примеров мимов можно найти множество, сама идея мима – это тоже самостоятельный мим, навязчивая мелодия, модное словечко, концептуальная идея, рецепт блюда и т.д. Так же как и для гена, для мима важна устойчивость. Если мелодия недостаточно навязчива, тогда она быстро забудется и мим, во всяком случае в одном носителе, будет потерян. Но так же как и для генов, для мимов не менее важна плодовитость, т.е. скорость саморепликации, нежели устойчивость. Если мим интересен значительному числу людей, тогда он, теоретически, может распространяться в геометрической прогрессии. Таким образом, весь прогресс человеческой культуры можно свести к тому, что мимы, как более адекватно отражающие мир, так и более привлекательные для нашего чувственного восприятия, будут иметь селективное преимущество для распространения. Несколько утрируя, можно сказать, что двигателем социальной эволюции, согласно убеждениям Докинза, является стремление «эгоистичных мимов» к саморепликации. Нетрудно убедиться, что если и можно обвинить его концепцию в редукционизме и генетическом детерминизме, то только по излишней идейной узости такой интерпретации культурной эволюции, как результата распространения мимов. И хоть он находит много аналогий между генной эволюцией и эволюцией мимов, механизм самоорганизации здесь качественно иной, поэтому можно спорить о частностях, но по существу его концепция заслуживает, по крайней мере, частичного признания некоторых ее аспектов. Ведь Докинз, в отличие от большинства других социобиологов, практически исключает роль биологического детерминизма в социальной эволюции.
Конечно же, наши гены влияют на нас изнутри, и как бы мы ни стыдились своего биологического прошлого, мы еще полностью с ним не порвали, природа все еще внутри нас. Но главное – это то, что наша биологическая природа, оказывая влияние на нашу социальную природу, может способствовать нашей социальной эволюции или столь же вероятно мешать ей, но никогда она уже не будет ее детерминировать. Движут нами только социальные начала. Мы зависимы от нашей биологии, но в своих главных устремлениях, определяющих прогрессивный рост, мы не зависим от этой зависимости. Именно этого утверждения не хватило Докинзу, чтобы полностью порвать с генетическим детерминизмом прочих социобиологов. Может быть, поэтому, наряду с мировым признанием, Докинз столкнулся с настоящим шквалом критики. Впрочем, такая внутренняя антипатия ко всем органическим моделям развития в действительности имеет не столько логическую, сколько психологическую основу, нами здесь движет антикаузальный страх предопределенности, и мы именно потому принимаем в штыки любые концепции, хоть как-то претендующие на то, что мы не полностью свободны в своем развитии.
Гены в результате коадаптации часто образуют сцепленные группы генов, которые могут наследоваться только совместно, также и мимы могут образовывать мимокомплексы. Мимокомплексы – это целостные идейные парадигмы, включающие обязательный набор мимов. В такой комплекс могут включаться мимы нейтральные по отношению к нему, но распространение в них мимов, противоречащих мимокомплексу, практически исключается. Здесь также проявляется очевидная аналогия с генами.
Главное отличие мима от гена – это то, что репликатором для него является человеческое сознание, поэтому он может распространяться значительно быстрее, и культурная эволюция потому протекает на порядок интенсивнее. Но на этом различия не заканчиваются. Ген по своей природе корпускулярен и распространяется по принципу «все или ничего». Мимы значительно более пластичны, могут неограниченно мутировать, обмениваться «локусами», сливаться, делиться и т.д., что дает гораздо больше возможностей для их эволюции.
Все живое стремится себя сохранить двумя путями: стремлением к индивидуальному выживанию и стремлением к распространению собственной генной структуры [25]. Человек приобрел третий путь – сохранение частичек собственного «Я» посредством распространения своих мимов. Гены человека с каждым поколением распыляются в результате ассимиляции другими генами. Конечно же, наши гены, будучи по своей природе корпускулярными единицами, сами не растворяются в чуждом геноме, но они диффундируют подобно молекулам капли красителя случайно попавшей в гигантский водоем. Мимы же теоретически могут в неизменном виде распространяться неограниченное число раз, и потому гораздо больше шансов сохранить значимую роль после нашей смерти нашим мимам, чем нашим генам.
Докинз безусловно является последовательным и убежденным атеистом. И это проистекает не столько из его дарвинистских убеждений, значительная часть дарвинистов является людьми верующими. Он, прежде всего, убежденный материалист, в его материалистическом убеждении брать на веру только то, что можно эмпирически либо рационально подтвердить, видится прагматический взгляд на мир. В целом, конечно же, нет ничего плохого в его рационалистическом подходе, но все же не все в мире поддается рациональному описанию. Сводить веру в Бога к результату массового заблуждения людей, связанного с рационально-эгоистической эволюцией мимов, как это делает Докинз, вряд ли можно. В частности, он пишет: «Идея адского пламени просто-напросто сама себя поддерживает в результате своего чрезвычайно глубокого психологического воздействия. Она оказалась сцепленной с мимом о Боге, потому что обе они подкрепляют одна другую и способствуют выживанию друг друга в мимофонде. Другой член религиозного комплекса мимов называется верой. При этом имеется в виду слепая вера в отсутствие доказательств и даже наперекор доказательствам. Рассказ о Фоме неверующим излагается обычно не так, чтобы заставить нас восхищаться Фомой, но чтобы мы могли восхищаться поведением других апостолов по сравнению с ним. Фома требовал доказательств. Ничто не может быть более опасным для некоторых мимов, чем поиски доказательств. Мим слепой веры поддерживает самого себя с помощью такой простой осознанной уловки, как отказ от рационального исследования».
В действительности человеческая вера – это не только рационально необходимая для некоторых людей идеология, но и нечто большее, трансцендентальное, не имеющее никаких рациональных начал. Она проистекает изнутри, как и такое, например, чувство, как истинная любовь. И подчас эти чувства у человека настолько бескорыстны, что единственное объяснение, какое им удается найти, это только такое, что человек верит и любит, потому что он человек, и в этом его уникальная суть и подлинное превосходство. Далеко не все в человеческой природе можно свести к рациональным началам. Бихевиоризм, чей главный лозунг – это знаменитое высказывание академика Павлова: «поведение все суть рефлексы» – в настоящее время терпит крах наряду с другими механистическими моделями. Даже в поведении животных не все поддается рациональному описанию, в поведении же человека вообще значительная доля сознания носит феноменологический характер. Докинз подходит к описанию феномена человека сугубо прагматически и в той степени, в какой это вообще приложимо к человеческому сознанию, доводы его довольно убедительны, поэтому мы спорим не столько с Докинзом, сколько с утрированным рационально-механистическим взглядом на феномен сознания.
Конечно же, эгоистическая «борьба за существование» далеко не всегда является единственной формой самоорганизации в природе, и еще меньшую роль она играет в обществе. Докинз, будучи ортодоксальным дарвинистом, отстаивает именно «эгоистическое» направление эволюционизма. Однако для человека он признает важную роль и подлинно альтруистических факторов эволюции [26], считая, что культурная эволюция не может быть полностью сведена к эгоистическому стремлению мимов к саморепликации. «Быть может, есть еще одна черта, свойственная только человеку: это способность к неподдельному бескорыстному настоящему альтруизму, даже если относиться к этому пессимистически и допустить, что отдельный человек в своей основе эгоистичен, наше осознанное предвидение – наша способность смоделировать в своем воображении будущее – может спасти нас от наихудших эгоистичных эксцессов слепых репликаторов. Человек обладает силой, позволяющей ему воспротивиться влиянию эгоистичных генов, имеющихся у него от рождения, и, если это окажется необходимым, – эгоистичных мимов, полученных в результате воспитания. Мы способны даже намеренно культивировать и подпитывать чистый бескорыстный альтруизм – нечто, чему нет места в природе, чего никогда не существовало на свете за всю его историю. Мы построены как машины для генов и взращены как машины для мимов, но мы в силах обратиться против наших создателей. Мы – единственные существа на Земле, способные восстать против тирании эгоистичных репликаторов». И действительно, формирование этических и нравственных норм можно связать только с альтруистическими началами социальной эволюции. И так же как и гены, имеющие индивидуальный вред, но являющиеся общественно полезными, могут развиваться благодаря именно коэволюционным процессам, так же и многие мимы могут нести на себе груз не индивидуальной, а общественной адаптивности.
В общежитии мы различаем знающих и мудрых, отдавая предпочтение последним. Так и наука бывает знающей, а бывает мудрой. Мудрость науки – в ее методологии. Информационный взрыв нынешней науки – это взрыв знания, а не расцвет мудрости, методологии. Между тем только методология способна обуздать информационный взрыв, давая ориентиры в океане знаний, кристаллизуя рыхлые массы частных наблюдений в стройные теории. Науке нужен методологический перелом, а единственный путь к нему — диалектизация мышления.
Мейен С.В. Кто первым бросит камень?..
Часть 2
Этногенез и основные факторы этнической эволюции
2.1. Определение понятия «этнос»
Что каждый человек вкладывает в это понятие? На уровне обыденного знания представителем собственной этнической группы человек воспринимает того, кто выглядит, как он, ведет себя, как он, и говорит на том же языке, что и он. Для научного понимания этого явно недостаточно, тем более, что даже и на бытовом уровне данные критерии не всегда работают. И неудивительно, что при взгляде на представителя своего этноса мы часто ошибаемся в его идентификации. Мы знаем, насколько биологически полиморфны могут быть представители одной народности. Даже на бытовом уровне мы понимаем, что человек – это прежде всего носитель сознания, а уж потом определенного комплекса анатомических особенностей. И поэтому мы отказываемся считать своим того, кто ведет себя не так, как мы, даже если он и выглядит похоже, и наоборот, без труда принимаем чуждого по внешности, но близкого по духу соотечественника. Но если биологический критерий здесь не имеет первостепенного значения, то тогда какой?
Может быть, язык? Далеко не всегда. Многие языки распространились далеко за пределы ареала обитания того этноса, который считает его родным (английский, испанский, португальский, русский, французский и др.). При этом многие этносы имеют в своем составе людей, не знающих родного языка. Например, российскими немцами и российскими евреями был практически утерян родной язык, но они не потеряли чувства собственной этнонациональной идентичности. По мнению ряда исследователей, «малые» языки (языки национальных меньшинств) постепенно замещаются «мировыми» языками, либо языками доминирующего в нации этноса. Однако в последние годы эта точка зрения опровергается нарастающими процессами ревитализации утраченных языков. Показателен пример с ирландцами, которые до сих пор говорили практически только на английском, но в последнее время начали реанимировать свой, уже практически утерянный язык. А разве американцы, говорящие на английском, считают себя англичанами? Часто наблюдается обратная картина, когда народ имеет свой уникальный язык, но не причисляет себя к этносу, тождественному этому языку. В графстве Нортумберленд (Англия) живет народ, говорящий на норвежском языке, но они считают себя англичанами. К тому же известны случаи, когда разные народы говорят на одном языке. На французском языке кроме французов говорят еще франко-бельгийцы, франко-швейцарцы и франко-канадцы, французами себя не считающие. На немецком языке кроме немцев говорят еще австрийцы и часть швейцарцев. Шотландцы, уэльсцы и англичане говорят на английском языке, и это одна нация, но разные этносы. Многие латиноамериканские этносы говорят на испанском языке: аргентинцы, мексиканцы, перуанцы. Особенно часто такие языковые коллизии мы наблюдаем в малых этносах, поскольку в микроэтногенезе (см. ниже) этническая дивергенция может происходить настолько быстро, что их языки не успевают столь же дивергировать дальше уровня диалектов. Многие этносы говорят на диалектах настолько близких, что не всегда можно уловить четкую разницу между ними (балкарцы и карачаевцы, чеченцы и ингуши), однако это самостоятельные этносы. Об этом свидетельствует эндогамность, уникальные этнонимы и этническое самосознание (осознание собственной особости).
Известны и прямо противоположные случаи, когда один народ имеет несколько родных языков. Во Франции представители французского этноса говорят на нескольких языках, как, например: французский, провансальский, кельтский (бретонский) и иберийский (гасконский). Народ мордвы говорит на двух языках: эрзя и мокша. Известно и множество других подобных примеров, как, например: идиш и иврит у евреев, дигорский и иронский языки у осетин. Все еще больше усложняется наличием так называемых сословных языков. Например, русское дворянство конца XVIII – начала XIX века говорило в основном на французском языке, и только события войны 1812 года, всколыхнув патриотические чувства русского дворянства, вернуло русскому языку первостепенную роль. Известно и много других примеров, когда высшее сословие говорило преимущественно на чуждом собственному этносу языке: в Парфии на греческом во II–I веках до н.э., в Персии на арабском в VII–XI веках, в Англии на французском в XII–XIII веках, однако это не привело к выделению высшего сословия в особый этнос.
Может, основным свойством этнической идентичности являются культурологические особенности этноса: культура, нравы и обычаи? Да, это чрезвычайно важный критерий, но не определяющий. Обычаи забываются, а культура ассимилируется культурой доминирующего этноса, если не будет внутреннего стремления к поддержанию собственной этнической самобытности. К тому же культурологический этнический портрет народа в разные исторические эпохи часто различается даже больше, чем между многими этносами одной эпохи. Не менее значительными бывают культурологические различия различных социальных слоев этноса. Что, например, заставляет казака, одетого в черкеску, считать своим русского предводителя уездного дворянства, а не гораздо больше на него похожего культурологически и даже объективно кавказского горца.
Что же определяет такие устремления, иными словами, что является основной движущей силой этноэволюции? Можно предположить, что таким движителем является этническое самосознание. Человек должен, прежде всего, осознавать себя представителем собственного этноса, гордиться своим народом, любить свою историю и культуру. Ведь этнос – это, по сути, такая же объективная реальность, как и личность. Им также свойственны обиды и разочарования, гордость и гнев, стремление к самосохранению и росту.
Гумилев утверждает, что «этнос – не популяция» [44, c.28]. Все же в той степени, в какой вообще уместно биологизировать проблему этноэволюции, этнос можно рассматривать как социально-антропологический аналог биологической популяции. Популяция – это группа особей одного вида, населяющих определенную территорию, в которой в течение длительного периода вероятность внутреннего генетического обмена путем скрещивания значительно выше, чем с особями того же вида, находящимися вне нее. Иными словами, популяция – это относительно генетически изолированная группа особей одного вида. Следует уточнить, что кратковременные сообщества-эфемеры популяциями считаться не могут, поскольку популяция – это весьма устойчивая структура, характеризующаяся собственными уникальными частотными показателями генов, что является следствием частичной изоляции в течение, по крайней мере, десятков поколений. Поэтому два залетевших в комнату роя мух никак не могут тут же образовать одну популяцию, как утверждает Гумилев.
Отличия антропологических рас от ныне существующих этносов не ограничиваются тем, что расы являются более широкой общностью. Расы – это сугубо биологическая, антропологическая общность, тогда как этнос является прежде всего социальной общностью. Однако можно предположить, что расы являлись первичными этническими категориями, и только потом стали сугубо антропологическим свойством общности.
Для человека биологические особенности строения и физиологии в качестве этнических критериев несущественны и вторичны, значительно большую роль играют особенности социального свойства, такие, как язык, нравы, традиции, обычаи, верования, культура, искусство, ремесла. И действительно, можно обнаружить в некоторых этносах представителей самых различных антропологических типов, но нет этноса, не имеющего каких-либо единых социокультурных характеристик. Например, американский макроэтнос при всех различиях этнических групп имеет собственный, уникальный и легко идентифицируемый социокультурный тип, но собственного антропологического типа не имеет. Таким образом, при современном уровне развития транспортных коммуникаций и интеграции общества, в биологическом смысле, популяцией является все человечество в целом. Это в общем признанный биологическим ученым сообществом факт. Ведь нельзя найти хотя бы одну значительную изолированную группу людей, которая не имела бы возможности обмена генами с любой другой. Незначительные же группы, в принципе, не могут существовать изолированно на протяжении многих поколений, в результате гомозиготации генома, вследствие неизбежных родственных браков. Но если использовать термин «культуроген», позаимствовав его у социобиологов, тогда отдельные этносы как раз и могут быть представлены как отдельные человеческие популяции. Поскольку «этногены» [27] хоть и могут мигрировать за пределы этноса, как и гены биологические, но в целом каждому этносу свойствен свой, уникальный социокультурный этногенетический портрет. И если ни один этнос нельзя считать настолько генетически изолированным, чтобы его можно было считать самостоятельной популяцией, то в культурологическом смысле каждый этнос представляет относительно изолированную социальную популяцию. Поэтому этнос, конечно же, не популяция в строгом биологическом смысле этого термина, но во многом подобен ей культурологически.
И тем более этнос – это не вид. Настолько смелое утверждение не пришло в голову даже идеологам расизма. Все человечество не только относится к одному виду, но, судя по последним данным, и к одному подвиду Homo sapiens sapiens. И все же в определениях как вида, так и этноса также можно найти множество аналогий. Вид, так же как и этнос, понятие статистическое, неопределенное. Точно так же и между близкими биологическими видами нет четких границ. И точно так же для характеристики вида приходится использовать целый комплекс критериев для более или менее успешного диагностирования (ареал, морфофизиологические особенности, генетическая изоляция, кариотип, особенности этологии и некоторые другие). Но подобно тому, как определяющим критерием для диагностирования биологического вида является генетическая изоляция, точно так же для характеристики этноса главным и определяющим критерием идентификации является этническое самосознание. И действительно, именно самосознание определяет частичную культурологическую отграниченность от близких соседних этносов. То есть и здесь важнейшим является тот же фактор – генетическая изоляция, поскольку именно самосознание этноса способствует резкому сокращению экзогамных браков. Конечно же, этнос не вид и даже не популяция, это понятие прежде всего культурологическое и в гораздо меньшей степени биологическое. Однако некоторая общность обнаруживается. Главное же отличие от биологических систем состоит в том, что здесь прежде всего основным результатом снижения экзогамии будет не генетическая изоляция, а что гораздо важнее – культурологическая – это прежде всего язык, национальная культура и внутриэтнические нормы поведения. Следствием культурологической изоляции, частичной замкнутости этнической культуры, необходимой для сохранения собственной этнической неповторимости, является стремление к сохранению чистоты языка, поддержание и развитие собственного культурного достояния и вообще всего того, что можно считать «душой» этноса. Этнос здесь подобен самодостаточной «личности» со своими помыслами, мечтами, симпатиями, амбициями. Душой же этой «личности» и выступает этническое самосознание, вернее, интеграционное единство тех духовных сторон каждого представителя этноса, в которых осознается это единство и тем самым еще больше укрепляется.
Г.В.Ф. Гегель впервые сформулировал понятие «самосознание народов» как важнейшего качества в характеристике национальной общности еще в XIX веке, которое «состоит существенно в том, чтобы созерцать себя в других народах» [45, с.480]. Впоследствии многие авторы также выделяли «этническое самосознание» в качестве основного этноопределяющего признака [46, 47, 48, 49]. И все же некоторые авторы, как, например, Гумилев, считают «этническое самосознание» важным, но отнюдь не определяющим свойством этноса [50, с.3–17]. С.М. Широкогоров вообще не относит самосознание к числу значимых критериев этнической идентичности, характеризуя этнос как группу «людей, объединенных единством происхождения, обычаев, языка и уклада жизни» [51, с.122].
Гумилев не признает какую-либо значимую роль этнического самосознания в этногенезе, что шло вразрез с общепринятым мнением. В частности, крупнейший российский этнограф, академик Ю.В.Бромлей, выражая свое несогласие, пишет: «Социальные факторы, образующие этнос, этническое самосознание [28] в том числе, ведут к появлению сопряженной с ним популяции, то есть перед нами картина прямо противоположная той, которую дает Л.Н.Гумилев» [53, с.122–123]. Гумилев так отвечает своему оппоненту: «Ю.В.Бромлей имеет право выбрать для своего логического построения любой постулат, даже вполне идеалистический, согласно которому реальное бытие этноса не только определяется, но и порождается его сознанием. Считать же, что сознание, пусть даже этническое, может быть генератором энергии, – это значит допускать реальность телекинеза» [44, с.46]. В защиту позиции Бромлея, а заодно и нашей, приведем ряд аргументов:
1. Если, например, группа представителей малого этноса, попадет в среду другого этноса, полностью отрекшись при этом от своих прежних корней, то даже если для других они и останутся чужаками, все равно через поколение, другое этот островок малого этноса затопит океан преобладающего по численности народа. И им в этом не поможет даже переизбыток пассионарной энергии, поскольку она уже будет работать во благо того этноса, которому посчастливится принять пассионариев, не причисляющих себя уже ни к какому народу, а значит, готовыми вобрать в себя всю духовную культуру того народа, который принял их. Значит, самосознание необходимо, во всяком случае, для сохранения этнической идентичности. Сознание созидательно уже хотя бы потому, что оно управляет мышечной энергией.
2. Информация есть величина, обратная энтропии. Значит, знания несут вполне реальную энергию, которая, естественно, может реализовываться только через материальное. Для создания атомной бомбы требуется значительно меньше энергии и капитала, чем для получения информации о ее устройстве. Знания могут не только реально созидать, но и разрушать.
3. Гумилев пишет: «Нет ни одного реального признака для определения этноса, применимого ко всем известным случаям. Язык, происхождение, обычаи, материальная культура, идеология иногда являются определяющими моментами, а иногда – нет. Вынести за скобки мы можем только одно – признание каждой особью ”Мы такие-то, а все прочие другие”» [54, с.116]. Что же это, как не самосознание этноса? Гумилев здесь либо сам себе противоречит, либо понимает феномен самосознания как какую-то идеалистическую реальность. В последнем случае противоречие заключается не в сути, а в терминах.
Этническое самосознание – понятие весьма многогранное и, как и сознание человеческое, практически не поддается непосредственному анализу. Проще его анализировать по конкретным проявлениям. Если мы делаем скидку представителям своего этноса, это проявление этнического самосознания. Поддержка зарубежной диаспоры, любовь к родной культуре, боль за лишения, выпавшие на долю своего народа, и переполняющее чувство гордости за земляка, стоящего на олимпийском пьедестале, – все это проявления этнического самосознания. Но когда сталкиваются интересы народов при неверной и беспринципной политике их лидеров, проявления этнического самосознания могут приобретать и разрушительный характер. Поэтому лучше стимулировать самосознание подъемом этнической культуры, а не возрастанием защитных механизмов этноса.
В данной работе обосновывается точка зрения, согласно которой «этническое самосознание» является хоть и далеко не единственным, но главным и определяющим свойством этноса. Попробуем обосновать это утверждение, проанализировав все основные критерии этнической идентичности.
Основные критерии этнической идентичности
Этноним – самоназвание этноса.
Безусловно, один из самых надежных критериев этнической идентификации. Если два предположительно разных этноса называют себя одинаково и это не случайное совпадение, тогда есть все основания утверждать, что это единый этнос, поскольку одного факта осознания себя единым этносом достаточно для быстрого стирания граней между ними в результате межэтнической ассимиляции. Однако можно ли считать его самостоятельным критерием? Этноним не более как фонетическое отражение самосознания этноса, и выделять его в качестве самостоятельного критерия, по-видимому, нецелесообразно. К тому же некоторые субэтносы также имеют самостоятельные этнонимы, вернее было бы их назвать субэтнонимами, но понять, что это, этноним либо субэтноним, можно, только поняв, этнос это либо субэтнос. Гумилев пишет, что «широко бытует мнение, будто этническое самосознание как один из социальных факторов определяет не только существование этноса, но и возникновение его. Самосознание проявляется в самоназвании. Следовательно, если будет доказано несовпадение того и другого, то вопрос об их функциональной связи отпадает» [54, с.94]. Далее он приводит факты, подтверждающие такое несовпадение. Один этнос может якобы иметь несколько этнонимов, либо разные этносы могут иметь один этноним. Здесь следует разобраться глубже.
Во-первых, название этноса является отражением самосознания только лишь тогда, когда этнос сам себя так называет, т.е. когда это является не просто названием, а самоназванием. Например, для русских наименование «русский» является этнонимом, поскольку они сами себя так называют, а многие жители дальнего зарубежья русскими называют практически всех жителей России и СНГ, это название, а не самоназвание. Одних адыгов называют кабардинцами, других черкесами, бжедугами, адыгейцами, шапсугами, но это только субэтносы, поскольку сами они себя называют одинаково – адыгами. Ранее адыги имели и внешний этноним – черкесы, который теперь сохранился лишь как субэтноним одного адыгского субэтноса.
Во-вторых, следует отличать этноним от субэтнонима. Например, одни осетины называют себя иронцами (преимущественно православные), другие дигорцами (преимущественно исповедующие ислам). Казалось бы, вот оно, несоответствие. Однако для осетин наименование «осетин» – это этноним, а наименования «иронец», «дигорец» – это субэтнонимы, они второстепенны, и смешение между этими субэтническими группами происходит настолько активно, что говорить о двух самостоятельных этносах пока не приходится. Но когда этническая дифференциация этих народов пройдет критический порог разделения, эти субэтносы перейдут в самостоятельные, хоть и весьма близкие, этносы, а субэтнонимы, соответственно станут этнонимами.
В-третьих, то, что первоначально нам представляется как этноним, не совпадающий с феноменом этнического самосознания, может быть просто собирательным названием для обозначения межэтнической общности. Например, названия «римлянин», «россиянин» или «византиец» – это не этноним, а объединяющее название государственно-территориальной общности людей.
Этнокультурные особенности (обряды, обычаи, семейный быт).
Именно по этому критерию в первую очередь и отличают этнос. Но достижение и сохранение культурной самобытности этноса возможно только при достижении определенного уровня этнического самосознания.
Антропопсихологические особенности.
Данный критерий, как правило, не работает. Многие этносы, в особенности имеющие широкое географическое распространение, весьма полиморфны по этому признаку. И очень часто трансгрессия бывает настолько высока, что говорить о статистически достоверных различиях вообще не приходится. Например, в юго-западной России русские, как правило, черноволосые и темноглазые, в северо-западных же областях России русские чаще русоволосы и голубоглазы. При сравнении заволжских староверов с русской эмиграцией из Брайтон-Бич или терских казаков с поморами трудно поверить, что все это представители одного этноса. Столь серьезные различия, особенно этносов, имеющих протяженный ареал, связаны как с неизбежной ассимиляцией с соседними народами, так и с внутриэтнической дифференциацией. В биологическом смысле, как и в культурологическом, чистых этносов не существует, даже язык иногда меняется до неузнаваемости. «Ни один народ, ни одна раса не остаются неизменными. Они непрерывно смешиваются с другими народами и расами и постоянно изменяются. Они могут казаться почти умирающими, а затем вновь воскреснуть как новый народ или как разновидность старого» [55, с.53]. Например, японцы являются этносом, который произошел в результате взаимной ассимиляции монголоидов из Полинезии, Кореи и Китая и древнего народа, относящегося к белой расе и живущего до сих пор на острове Хоккайдо – айнов. Французы образовались путем смешения преимущественно галлоримлян с салическими франками, немцы являются результатом взаимной ассимиляции преимущественно рипуарских франков, тюрингов, швабов и саксов. Испанцы произошли от смешения алан, вестготов, лузитанов и свевов. Этот список можно продолжить. И что особенно важно, такая взаимоассимиляция продолжается непрерывно и неравномерно в разных областях обитания этноса, поэтому этнос антропологически бывает столь полиморфен.
Единство территории.
К числу важнейших критериев этнической идентификации следует отнести занимаемый ареал. Но и здесь есть определенные сложности. Этнос может быть кочующим либо географически ассимилированным. Ареал может меняться либо смещаться динамически и исторически. Различные этносы могут заселять один ареал, либо этнос может иметь спорадичное распространение. Здесь, по-видимому, уместнее было бы использовать понятие «родина». Прародина этноса может служить мощным интегрирующим этническим фактором, в особенности для диаспор, ее потерявших. Причем для представителей этноцентра [29] прародина будет иметь превалирующее значение над родиной биологической. В настоящее время, в связи с развитием коммуникаций, роль данного критерия значительно снизилась.
Общность происхождения.
Происхождение многих, особенно древних этносов, весьма туманно. Со временем история первичного формирования этноса неизбежно искажается, происходит ее приукрашивание, героизация и она превращается в миф, легенду. Как указывает Х.Г. Тхагапсоев: «В системе этноэтатизма особое место занимают исторические мифы, которые посредством «сублимации» истории этноса – на основе заведомой героизации и драматизации прошлого обеспечивают мобилизацию этнического самосознания «”как надо”» [56, с.160]. И уже не так важна ее истинность, важно лишь, чтобы эта легенда заставляла гордиться своей принадлежностью именно к этому народу, стимулировала подъем национального самосознания. И поэтому здесь часто бывает важна не столько реальная общность происхождения, сколько миф об этом. С.М. Широкогоров, наряду с такими этнодифференцирующими признаками, как язык и уникальный культурный комплекс, выделяет и такой, важнейший с его точки зрения, критерий, как «вера в общее происхождение» [57, с.100–119]. Именно здесь особенно подходит идея саморепликации мимокомплексов Докинза. Мимокомплекс героического прошлого этноса просто обречен на успешное распространение в среде своего народа. В таком случае этнос можно представить не только как причину распространения такого мимокомплекса, но и как его результат. Часто предком этноса может считаться какое-то реальное, либо мифическое животное, бог или даже неодушевленный предмет. Вот что пишет по этому поводу Гумилев: «В древние времена это (происхождение от одного предка. – Д.М.) считалось обязательным для этноса. Часто в роли предка за отсутствием реальной фигуры выступал зверь, не всегда являющийся тотемом. Для тюрок и римлян это была волчица-кормилица, для уйгуров – волк, оплодотворивший царевну, для тибетцев – обезьяна и самка ракшаса (лесного демона). Но чаще это был человек, облик которого легенда искажала до неузнаваемости. Авраам – праотец евреев, его сын Исмаил – предок арабов, Кадм – основатель Фив и зачинатель беотийцев и т.д. Как ни странно, эти архаические воззрения не умерли, только на место персоны в наше время пытаются поставить какое-либо древнее племя – как предка ныне существующего этноса. Но это столь же неверно. Как нет человека, у которого были бы только отец или только мать, так нет и этноса, который бы не произошел от разных предков. Так, из смеси славян, угров, аланов и тюрок развилась великоросская народность» [54, с.75, 77].
Важен не реальный предок, а всеобщая вера в единство происхождения. В действительности же говорить о единстве происхождения весьма сложно. Этносы по сути полифилетичны, и более того, внутри его постоянно происходит метизация в результате экзогамии. Когда же этнос расширяется, ассимилируя другие народы, он невольно ассимилируется и сам, часто от первичной биологической основы вообще практически ничего не остается. Кто, например, сейчас увидит у славян персидский след, унаследованный ими от скифских предков. Но это и неважно, гораздо важнее душа этноса, его самосознание, которое базируется в числе прочего и на мифе о своей прародине и великих предках. Сторонники конструктивистского направления в этнологии считают представление или миф об общей исторической судьбе важнейшим критерием этнической идентификации, все же, наверное вернее было бы считать этот критерий важной составляющей этнического самосознания.
Общность целей.
Такой утилитарный критерий сторонники инструменталистского направления в этнологии считают определяющим, что весьма спорно. Инструменталисты трактуют этничность как «средство в коллективном стремлении к материальному преимуществу на социальной арене» [58, с.4]. Это верно лишь отчасти, в сравнении с этносами цели гораздо более изменчивы во времени и в пространстве. К тому же различные социальные слои одного этноса могут иметь различные цели, но общие с аналогичными социальными слоями других этносов. Однако данный критерий служит мощным мобилизующим фактором в критические периоды существования этноса. Например, швейцарцев, говорящих на четырех языках, невольно спаяла в единый этнос общая цель – национально-освободительное движение против австрийских феодалов.
Наиболее выдающимся сторонником выделения именно этого критерия, по-видимому, был известный испанский философ Ортега-и-Гассет, который также указывает в качестве важнейшего интегрирующего начала общность целей: «У жителей Центральной и Южной Америки общее прошлое с испанцами, общий язык, общая кровь, и тем не менее они не образуют общей нации. Почему? Не хватает одного и, видимо, самого главного – общего будущего» [24, с.166], исходя из чего он выражает «потаенную суть нации, состоящую из двух ингредиентов: первый – это план совместного участия в общем замысле и второй – сплочение увлеченных замыслом людей» [24, c.167]. Однако можно в связи с этим задаться вопросом, потому ли нация едина, что люди, ее составляющие, имеют общие цели, либо цели у них общи в связи с их внутренним идейным единством? Было ли такое единство у испанских колонистов с народами Латинской Америки? В связи с тем, что уровень этнического самосознания латиноамериканских индейцев был значительно ниже, чем у североамериканских, здесь ассимиляция проходила значительно активнее. К тому же этому способствовало то, что менталитет латиносов оказался довольно близким испанскому. В итоге мы получаем новый народ. Слиться с испанским народом они не могли, слишком велики были изолирующие барьеры. В результате образовалась качественно новая общность, занимающая в чем-то промежуточное, но в то же время и уникальное положение, что изначально предполагало независимость целей.
Ортега-и-Гассет далее пишет: «Сегодня мы свидетели эксперимента грандиозного и четкого, как лабораторный опыт, – нам предстоит увидеть, удастся ли Англии удержать в державном единстве различные части своей империи, предложив им притягательную программу будущего сотрудничества» [24, c.167]. Это было написано еще в 1930 году. Теперь мы знаем, что этот «грандиозный эксперимент» показал, что общность целей без внутренней общности ничего не стоит. Кстати, Ортега-и-Гассет впоследствии отказался от своих инструменталистских убеждений. В той же работе, в предисловии к французскому изданию этой книги, он, в частности, писал: «Одной из грубейших ошибок «нового мышления», от которого мы все еще не можем отмыться, было то, что оно путало общество с сообществом. Общество не создается по добровольному согласию. Наоборот, всякое добровольно согласие предполагает существование общества» [24, c.188]. Здесь Ортега-и-Гассет демонстрирует диаметрально противоположные взгляды, фактически признавая ошибочность собственной доктрины об объединяющей роли единства цели для наций. Ставить цель впереди необходимости изначального единства нации – это все равно, что запрягать телегу впереди лошади. Однако не все так просто, тут необходим диалектический подход. При первичной роли единства общества цель также служит дополнительным объединяющим началом, укрепляющим это единство. Здесь мы наблюдаем все ту же причинно-следственную петлю обратной связи, когда результат усиливает возможность его достижения, что и определяет нелинейный характер развития.
Язык.
Весьма важный, но неоднозначный критерий. Если самосознание народа достаточно высоко, тогда этнос сделает все возможное, чтобы сохранить родной язык, или даже реанимировать его, как это сделали ирландцы. Если же собственное самосознание не высоко, тогда родной язык легко может быть утерян. Значит, и в этом случае критерий этнического самосознания является определяющим.
Конфессиональный критерий.
Вероисповедание также обладает этнодифференцирующими свойствами, но тоже далеко не всегда. Например, абхазы исповедуют ислам и христианство, сохраняются также и традиции язычества, но это один этнос. К тому же, в связи с возрастанием роли мировых религий над национальными, данный критерий чаще отражает суперэтническую принадлежность. Конечно же, с течением времени мировые религии дифференцируются, приобретают уникальные черты, вплетаясь причудливым образом в самобытную культуру различных народов. Например, самосознание русского этноса ныне неотделимо от русской православной церкви, когда, казалось бы, чуждая византийская религия становится русской лишь постольку, поскольку русские осознают себя православными, значит, и здесь роль самосознания первична.
Впрочем, на закате этноса в идеациональной фазе развития (см. ниже), когда религия становится основным стержнем национального самосознания, и в период формирования этноса конфессиональность может быть важнейшим этнодифференцирующим признаком. Особенно важное значение конфессиональность имеет в тех случаях, когда именно смена вероисповедания создает возможности внутренней эндогамии и последующего выделения указанной религиозной консорции в самостоятельный этнос. Подобным образом, например, сикхи (индусы-мусульмане) выделились в самостоятельный этнос. Турки-османы также изначально представляли собой скопище казалось бы несовместимых между собой народов, в их ряды вливались помимо восточных, также и многие кавказские, славянские и даже западноевропейские этносы. Но их, как и сикхов, сплотила вера. И это понятно, ведь основным идейным стержнем, объединяющим этих людей, является общность вероисповедания, вокруг которого и формируется новый этнос, в этом случае религиозное самосознание неотделимо от этнического, как, например в иудаизме.
Таким образом, религия тогда становится важным этническим объединяющим началом, когда становится неотделимой частью этнического самосознания. Когда же этнос, сформированный на конфессиональной основе, расширяется, начинает снижаться роль конфессиональности в этническом самосознании как этнодифференцирующего признака, и этносы, объединенные под флагом новой религии, начинают дифференцироваться по другим критериям этничности. В противном случае и ныне все православные были бы византийцами, а все мусульмане арабами. Следовательно, и здесь мы видим первичный характер этнического самосознания. В Новое время роль конфессионального критерия заметно снизилась.
Аксиологический – этническая система ценностей.
Как и общность целей, данный критерий весьма изменчив как во времени, так и в пространстве.
Генеалогический.
По сути, близок к критерию, обозначенному как «общность происхождения», но здесь имеет значение преемственность развития по отцовской линии (гораздо реже по материнской). В некоторых культурах, в которых особенно высока вероятность генокультурной ассимиляции, становится особенно важным выявление генеалогической общности. В такой культуре человек назовет себя, например, арабом, даже если у него в действительности арабом был только прадед, но по отцовской линии. Именно с этим фактом можно связать предпочтительную роль сыновей в семьях большинства культур. Этот факт лишний раз подтверждает превалирующую роль социальной идентификации в этническом самосознании над идентификацией биологической. Такая модель преемственности этнического самосознания по отцовской линии была очень удобна при активной экспансии этноса, когда, несмотря на неизбежную в таких условиях генетическую ассимиляцию расширяющегося этноса, в социально-культурологическом плане такой этнос сохраняет свою целостность. И наоборот, для предотвращения культурологической ассимиляции статичного этноса с ассимилированным ареалом гораздо удобнее сохранять этническую преемственность по материнской линии, как, например, у евреев. В любом случае наименее устойчивым будет тот этнос, в котором идентификация будет происходить исключительно по крови. Секрет устойчивости этносов состоит, в том числе, и в их несумативности, и из ребенка, рожденного англичанином и француженкой, не выйдет англофранцуза.
Самосознание этноса («душа этноса»).
Важнейшее и определяющее условие этнической идентификации. Там, где нет дихотомического отношения «мы–они», там нет этноса. Конечно же, самосознание, когда оно уже утвердилось, не только определяет все прочие этнодифференцирующие признаки, но и в некоторой степени и само начинает определяться ими. Поэтому первичная роль этнического самосознания тоже далеко не абсолютна. Таким образом, этнос – это, прежде всего, когнитивная категория, но она не сводится к простой сумме элементов самосознания каждого его представителя, а является целостным интегрирующим началом, в основе которого и лежит самосознание, закрепляемое конструктивистскими и инструменталистскими элементами этнической идентичности.
Можно еще упомянуть систему диагностирования этносов, основанную на определенных хозяйственно-культурных типах [59, с.3–16], монголы: кочевники и скотоводы; чукчи: оленеводы и охотники и т.д. Однако данный критерий не только вторичен, но и практически никогда четко не работает в пределах одного этноса. Этнос может характеризоваться преобладанием определенного хозяйственно-культурного типа, но хозяйственно-культурные типы не могут характеризовать этнос.
Таким образом, можно дать следующее определение этноса: этнос – это общность людей, объединенных единым этническим самосознанием, т.е. осознанием как своей общности, так и отличия от прочих народов, и на основе самосознания формирующих ряд прочих вторичных этнодифференцирующих признаков: язык, систему собственной идеологии, этики, права и единых норм поведения.
2.2. Теория этногенеза Гумилева
Гумилев предложил своеобразную популяционно-энергетическую модель этногенеза. В своих теоретических построениях он исходил из следующих предпосылок.
1. Этнос – физическая энергозависимая система.
2. Как и во всякой энергозависимой системе, все процессы в ней требуют притока энергии. Основным источником энергии этноса является пассионарность, под которой понимается «непреодолимое внутреннее стремление (осознанное или чаще неосознанное) к деятельности, направленной на осуществление какой-либо цели (часто иллюзорной)» [44, с.48].
3. Пассионарность, в свою очередь, питает солнечная, либо космическая энергия.
4. Формирование макроэтносов и некоторых этносов обязано периодическим выбросам такой энергии (пассионарный толчок), в результате которых внутри старого этноса образуется консорция, в которой объединены члены этого этноса с высокой пассионарностью. И именно экспансия этого этнического пассионарного ядра служит началом формирования новой макроэтнической группы.
5. Пассионарность – это генетически обусловленный признак, а пассионарный толчок – это мутаген, приводящий к мутации, образующей ген пассионарности.
«Пассионарность», – понятие, которое впервые ввел Гумилев, это, безусловно, важная веха в развитии этнологии. Введение нового параметра, характеризующего динамику этногенетических процессов, позволило разрешить многие ранее не решенные вопросы. Почему некоторые народы ведут весьма активную культурологическую и военную экспансию, некоторым пассионарности хватает лишь на сохранение накопленного потенциала, а некоторые уже настолько пассивны, что не способны сохранить уже достигнутое этническое единство и занимаемую территорию? Также пассионарность может разниться и в отдельных личностях.
Однако идея пассионарности является одновременно и самым слабым местом в его концепции. Она создает столько же противоречий, сколько и разрешает. Каков механизм пассионарных толчков? Что является носителем пассионарности? Гумилев считает, что признак пассионарности закладывается на генном уровне. Тогда каким образом этот ген может так быстро распространяться? Гумилев считает, что после пассионарного толчка происходит мутация, приводящая к образованию гена пассионарности, ссылаясь при этом на работу известного американского астронома Джона Эдди, который составил график солнечной активности за последние 5000 лет [60, с.315–329]. Гумилев считает, что «все датированные пассионарные толчки хронологически совпадают с минимумами солнечной активности либо с периодами ее спада. При уменьшении солнечной активности защитные свойства ионосферы снижаются и отдельные кванты или пучки излучения могут достигать земной поверхности. А жесткое излучение, как известно, вызывает мутации» [54, с.559]. О совпадении здесь говорить сложно, модельные построения Эдди и Гумилева весьма субъективны, но вот противоречий такая модель этнического мутагенеза создает множество.
Во-первых, более общепринятым является мнение, что не спад, а возрастание солнечной активности стимулирует мутационные процессы и напряжение социальной активности [61].
Во-вторых, каким образом спад солнечной активности вызывает рост мутаций именно на определенных осях пассионарных толчков? Если эти оси зависят от магнитного поля земли, как считает Гумилев, то и тогда непонятно несоответствие их направлений с направлениями магнитных полей. Гумилев почему-то считает, что такое совпадение есть, однако углядеть общность изображенных им осей пассионарных толчков с геодезическими линиями Земли совершенно невозможно. Поэтому неудивительно, что уже в более поздних работах Гумилев видит источники пассионарных толчков не в солнечной активности, а в энергии космоса, когда сгустки неведомой энергии, пришедшие из глубин Галактики, ударяют, словно плетью по шару нашу многострадальную Землю. «Сразу можно отбросить солярную гипотезу, ибо Солнце освещает одновременно целое полушарие, а не узкую полосу шириной 200–300 км. …Остается неотброшенной одна гипотеза – вариабельное космическое облучение. Пока она не может быть строго доказана, но зато и не встречает фактов, ей противоречащих» [62, с.319–320]. Впрочем, все равно не понятно, каким образом это «неизвестное пока излучение в оптической части спектра» может ориентироваться якобы только по геодезическим линиям. Трудно спорить, когда ссылаются на неведомые силы, однако известно, что мутационный процесс, как и всякие бифуркации, стохастичен по сути. До сих пор еще не удавалось выделить ни одного физико-химического фактора, который приводил к какой-либо конкретной мутации. Электромагнитное облучение гена пассионарности, если такой и существует, в равной мере может привести к мутации как увеличивающей пассионарность, так и уменьшающей ее. Но даже если в результате мутации образовалась область, в которой увеличилось число носителей гена повышенной пассионарности, непонятен механизм, по которому этот признак может быстро распространиться. Каким бы не было сильным мутагенное воздействие, мутации всегда возникают только в незначительной части популяции, этот факт признается и Гумилевым [44, с. 73]. К тому же мутации, за редким исключением, рецессивны, поэтому носители этой мутации пассионариями не будут, пока в результате браков между двумя носителями этого гена не появится потомство с гомозиготной аллелью по данному признаку. Общеизвестно также, что распространение нового гена, образовавшегося в результате мутации, возможно только в замкнутых областях, в которых миграционный пресс минимален [30]. Но тогда распространение этого гена внутри этноса не может превышать его максимально возможный генерационный прирост.
Гумилев приводит пример, когда праславяне в результате пассионарного толчка всего за 150 лет развились в славянский суперэтнос, «маленький народ, живший в современной восточной Венгрии, распространился до берегов Балтийского моря, до Днепра и вплоть до Эгейского и Средиземного морей, захватив весь Балканский полуостров. Как же они могли так быстро размножиться? Да очень просто. Эти праславяне, захватывая новые территории, очевидно, не очень стесняли себя в отношении побежденных женщин. Ведь при таком процессе много мужчин не требуется. Важно, чтобы было много побежденных женщин, и демографический взрыв будет обеспечен» [44, с.77]. Если предложить такую, сугубо биологическую модель первичной этнической экспансии, тогда не только ген пассионарности, но все этнодифференцирующие генетические признаки неизбежно будут ассимилированы в океане чуждых генов, как это произошло, например, с булгарами на Балканах. А ведь невозможно даже усомниться, что завоеватели хана Аспаруха были на пике пассионарной активности. Независимо от того, кто из родителей является завоевателем и представителем этноса, испытавшего пассионарный толчок, потомство унаследует в равной мере гены обоих родителей. Во втором поколении потомство экспансирующегося этноса будет иметь уже 25% его генов, в третьем – 12,5% и т.д.
Впрочем, на неизбежность культурологической ассимиляции в случае экзогамии совершенно недвусмысленно указывает и сам Гумилев: «…эндогамная семья передает ребенку отработанный стереотип поведения, а экзогамная семья передает ему два стереотипа, взаимно погашающих друг друга» [54, с.112]. Но если предложить культурологическую модель этнической экспансии, при строго патриархальной схеме этнической самоидентификации по отцовской линии, тогда, если этнический пассионарный импульс был достаточно высок, этнос действительно может лавинообразно распространиться. Для экспансирующихся этносов главное – сохранить преемственность идейного ядра первичной этнической культуры. Но поскольку в случае эндогамных браков даже при большом количестве детей в семьях темпы роста этноса будут незначительны, динамично развивающиеся этносы предпочитают расширяться посредством экзогамии. И не столь важно, что в результате неизбежной при этом генетической ассимиляции от антропологической основы первичного этнического ядра практически ничего не останется. Главное, чтобы национальная идея распространялась неразрывной цепью по отцовской линии.
Возможен и более радикальный вариант этнической экспансии, когда целые народы в результате культурологического поглощения механически включаются в этническое ядро расширяющегося этноса. Как это было при поглощении тюркских кочевых племен монголами во времена Золотой Орды, и даже расовые барьеры не были тому достаточной преградой. Для этого необходимо, чтобы уровень пассионарной активности поглощаемых этносов был невысок и давление расширяющегося этноса превышало естественные защитные барьеры поглощаемых этносов. Праславяне во времена пассионарного подъема распространяли, прежде всего, не гены, а собственную этническую культуру. Если принять такую культурологическую модель этнической экспансии, в отличие от генетической, тогда проблема сверхвысоких темпов распространения малого этноса, испытавшего пассионарный толчок, отпадет сама собой. Но в этом случае неизбежен вывод, что пассионарность в большей степени социальный феномен, нежели наследственно-генетический. Необходимо также признать приоритетную роль этнического самосознания в процессах этногенеза, с чем Гумилев категорически не согласен.
Генетическая экспансия посредством экзогамных браков бурно расширяющегося этноса не только не может служить средством этнической экспансии, как считает Гумилев, но напротив, способствуя генетической ассимиляции, может способствовать резкому снижению темпов этнического роста. Поэтому этносы на пике пассионарной активности максимизируют не столько собственные гены, сколько собственную уникальную этническую культуру. Культурологическая экспансия, в отличие от экспансии генетической, приводит не к ослаблению, а к укреплению этнического ядра. Но культурологическая экспансия по мере снижения пассионарной активности также постепенно прекращается, и этнос замыкается внутри себя. Одним из признаков такого спада активности является введение жестких таможенных барьеров на вывоз художественных ценностей. Бурно развивающаяся культура, напротив, гордится тем, что их достояния искусства, вливаясь в мировую культуру, тем самым расширяют духовные барьеры этноса.
Генетическая ассимиляция при продолжительном существовании малых этносов не только неизбежна, но и необходима. В противном случае народу грозит вырождение вследствие все большей гомозиготации генома и снижения пластичности, поскольку продолжительная эндогамия ведет к снижению изменчивости. Крупным этносам вырождение, даже в случае полной эндогамии, не грозит, но и в них генетическая ассимиляция неизбежна. В связи с высокой амбициозностью такие народы, расширяясь, принимают под свое крыло все больше народов, и даже если генный обмен с ними будет минимален, на протяжении длительного периода неизбежна практически полная генетическая ассимиляция. Тем более что в условиях постоянных миграций увеличивается не только число межэтнических браков, но и случайных сексуальных связей. Здесь можно найти аналогию с элементарной диффузией. Если нет условий, направленных на поддержание различных градиентов концентраций, две жидкости в одном сосуде с течением времени неизбежно перемешаются до гомогенного состояния. Поэтому ни о какой, даже относительной генетической чистоте народов и даже рас говорить не приходится, гораздо важнее, чтобы дух народа не ассимилировался.
Не меньше противоречий создает энергетическая модель этногенеза Гумилева. Темперамента одних этносов хватает на мировую экспансию, другие же не в состоянии даже сохранить остатки реликтовой культуры. Гумилев интуитивно видит в этом различную энергетику этносов. Но в чем заключается эта энергетика, у него нет определенного ответа. Как на вероятные источники, он ссылается на биополя, космическое излучение и солнечную радиацию, которая, согласно В.И. Вернадскому, преобразуется в физико-химическую «энергию живого вещества» Земли. Апеллируя к закону сохранения энергии, он предполагает, что для толчка этнических процессов необходим приток энергии, каковым и является пассионарный толчок. Однако генетическую мутацию, даже если она и приводит к появлению гена наследования более высокой активности, ни в коей мере нельзя считать аккумулятором этой энергии. Можно, конечно, предположить, что ген пассионарности определяет признак, контролирующий постоянный приток этой энергии, что еще более немыслимо, во всяком случае, тому нет никаких научных подтверждений. В любом случае это не согласуется с основной идеей Гумилева, согласно которой этническая активность определяется редкими кумулятивными выбросами энергии, которая в течение многих поколений постепенно им растрачивается. В частности, он пишет, апеллируя к теории неравновесных структур И.Пригожина: «Возникающая структура всегда ведет себя иначе, нежели прежняя, уже растратившая первоначальный импульс и близкая к равновесию со средой. Значит, импульс начало процесса диссипации, ведущей систему к неизбежному распаду» [63, с.238].
Какие реальные источники энергии служат двигателем генезиса этносов? Да в общем-то те же, что и для отдельных людей. Источником энергии для мускульной работы, впрочем, так же как и для мыслительной, служит биохимическая энергия, которая заключена прежде всего в ковалентных химических связях потребляемых человеком питательных веществ. Вся земная биомасса, хранящая запасы энергии в АТФ и других нуклеиновых кислотах, жирах, углеводах и в меньшей степени в белках, обязана своим энергетическим запасам фотосинтезу, т.е. фактически световой энергии солнца. Первичная биопродукция, прежде чем пойти в расход по различным трофическим уровням, синтезируется растениями и сине-зелеными водорослями. Только этим и исчерпываются все необходимые источники энергии для жизни, о которых писал Вернадский [64, с.283], за весьма несущественными исключениями (хемосинтез, термальная энергия, синтез витамина D и др.). В этом и кроется разгадка формального нарушения первого начала термодинамики. Некоторые люди имеют более высокую энергетику не в результате аккумуляции какой-то мистической космической энергии, а попросту в результате внутренних качественных особенностей, частично наследственно, частично социально обусловленных. Компенсируются же повышенные энергозатраты попросту за счет биохимической энергии, восполняемой за счет роста потребления пищи или более эффективного его расходования. Конечно же, было бы непростительным упрощением сводить взрывы этнической активности к элементарному росту потребления пищи, это лишь средство восполнения повышенной активности, толчок же пассионарности надо искать в другом. Однако это избавляет нас от поиска источников восполнения энергетических затрат.
Конечно же, стоит при этом учитывать, что все это верно только лишь при анализе внутренних источников энергетической активности. Человек тем и отличается от животных, что он может привлекать также и внешние энергетические источники. Именно поэтому человек, потребляя биопродукции в общем вполне соизмеримо со многими животными, неизмеримо более активен в процессах преобразования биосферы. Решение надо искать в человеческом разуме, являющемся мощным антиэнтропийным фактором в биосфере земли. Согласно Вернадскому, «человеческий разум, который не является формой энергии, а производит действия, как будто ей отвечающие» [64, с.272]. Разум может создать модель с более высоким КПД, затратив на ее производство значительно меньше труда и энергии, чем будет в результате сэкономлено. Значит, и разум, и этническое самосознание в том числе, может сделать качественный рывок в преобразовании себя и окружения, даже не привлекая для этого дополнительных источников энергии. И каким бы идеалистичным и антинаучным не казалось это утверждение, разум созидателен уже хотя бы потому, что он хранит и творит в себе полезную информацию. Ведь информация – величина, обратная энтропии, согласно известному определению Винера и Шеннона. Однажды полученная полезная информация может передаваться в дальнейшем практически без дополнительных затрат энергии. И несмотря на то, что энергозатраты человеческого мозга просто чудовищны, негэнтропийная, созидательная роль человеческого разума неизмеримо выше, но и здесь нет никакого нарушения закона сохранения энергии. Мощная преобразующая роль антропогенного фактора вовлекает все новые и новые внешние источники энергии. На определенном этапе развития обществу для дальнейшего роста уже не достаточно простой мускульной энергии, и оно начинает привлекать дополнительные источники. Человеком, как и этносами, движет их внутренняя энергия, внешняя же, получаемая посредством технологий, может лишь служить дополнительным источником благосостояния народов.
Важно также отметить, что пассионарную энергию этносов нельзя отождествлять с энергией созидающей. Пассионарии с не меньшим успехом могут использовать свою повышенную активность на разрушение. Отец-пассионарий создал мощную экономическую империю, а его сын с не меньшей энергией, достойной лучшего применения, промотал отцовское состояние. Такой пассионарий гораздо опасней любого субпассионария. Поэтому повышенной пассионарности недостаточно для толчка этногенеза, для этого необходимы соответствующие условия для направления этой пассионарности в нужное русло.
По всей видимости, не случайно основные идеи его концепции пришли к Гумилеву в конце 30-х годов. Ему не понаслышке пришлось узнать, как государственная машина может избавляться от своих лучших сынов, обедняя генофонд. Значит, если в определенные периоды истории этнический генофонд обедняется, то и должны быть периоды резкого подъема качества генофонда. И хоть в его работах нет никаких упоминаний о сталинских репрессиях по вполне понятным причинам, по-видимому, именно они навели его на эту мысль. Может быть, в определенные периоды истории «естественный отбор» продолжает действовать? Здесь все значительно сложнее. Во-первых, талант – это не только гены, это еще и определенная благотворная среда для полного раскрытия потенций талантливости, это еще и удача. Выдающиеся представители человечества – это только малая часть потенциально (генетически) талантливых, и репрессии могли сказаться на генофонде только этой малой части. Думается, что даже среди заслуженно выдающихся людей встречаются и такие, кто, не имея никаких особых генетических предрасположенностей, добился многого одним старанием и упорством. Во-вторых, человек реализует свою талантливость и приобретает известность уже в сравнительно зрелом возрасте, а к тому времени он обычно успевает оставить свои гены в детях. В-третьих, талантливые люди, как правило, более интересны своей незаурядностью, поэтому если они и в большей степени попадают под пресс «естественного отбора», то тогда «половой отбор» должен это компенсировать. У них меньше шансов выжить, но больше оставить потомство. Впрочем, скорее оба этих фактора слишком стохастичны для человека, чтобы их можно было считать детерминантами эволюционного процесса.
Но если генофонд талантливых людей обедняется репрессиями, тогда каким образом пассионарные толчки могут способствовать талантливости. Если и можно себе представить мутаген, вызывающий мутацию, способствующую возрастанию энергетической активности человека, то в отношении талантливости такое даже представить невозможно. Гумилев пишет: «Если же наше мнение не найдет подтверждения, то, значит, прав Тойнби, полагающий, что талантливость и энергия возникают сами, как только в них появляется нужда» [65, с. 203]. Талантливые люди есть всегда и во все эпохи, но только те пассионарии, которым посчастливилось родиться в нужное время и в нужном месте, являются миру во всем своем великолепии. Кто знает, сколько Кромвелей, Эйнштейнов и Робеспьеров умерло своей смертью, так и не узнав о своей гениальности? Трагедия угасающих культур не в отсутствии талантов, а в их невостребованности.
Пассионарная концепция этногенеза Гумилева является попыткой раскрытия причин формирования основных суперэтнических групп и небольшой части этносов. Он считает, что таких пассионарных толчков в исторический период человечество испытало девять, первый в XVIII веке до н.э., а девятый в XIII веке нашей эры. В результате последнего пассионарного толчка образовались такие молодые этносы, как эфиопы, турки-османы, литовцы и великороссы [62, с.313–317]. Конечно же, нельзя объяснить все этническое многообразие человечества столь редкими энергетическими выбросами в биосферу. Поэтому Гумилев, наряду с данной концепцией, признает вправе на существование и традиционным концепциям этногенеза в результате дифференциации этносов от консорций к конвиксиям и далее от субэтнических образований к новым этносам. Гумилев убедительно и последовательно описывает механизм формирования различных этнических групп (консорции [31], конвиксии [32], субэтнос и этнос), как естественные результаты системной дифференциации [54, с.134], но при переходе к анализу формирования таких макросистем, как суперэтнос, он считает уже, что «характер их возникновения иной». Если консорции при определенных условиях могут развиться до конвиксий, конвиксии до субэтнических групп и последние, в свою очередь, могут перерасти в самостоятельный этнос, почему же тогда суперэтносы нельзя представить как результат интеграции сосуществующих этносов? Все нижестоящие этнические подразделения не нуждаются для своего формирования в пассионарных толчках, а супеэтнические макросистемы просто не могут без них обойтись.
По Гумилеву, формирование субэтносов является естественным следствием стремления этносов к самосохранению, поскольку «некоторая сложность структуры повышает сопротивляемость этноса» [44, с.34]. Здесь кроется весьма распространенная телеологическая ошибка. С одной стороны, действительно, дивергентная эволюция, когда система, распространяясь, дробится, дифференцируясь на все более мелкие и все более различающиеся между собой подсистемы, имеет всеобщий характер в сложных эволюционирующих системах, но с другой – системная дифференциация имеет не целевую, а причинную природу. Можно, в частности, утверждать, что формирование новых видов живых организмов связано не со стремлением биосферы ко все большей устойчивости (биосфера это не ноосфера, у нее нет разумного начала и она ни к чему не может стремиться), а просто в каждом конкретном случае дифференциация есть следствие адаптации к частному. Механизм дивергентной эволюции в живой природе заключается в адаптивной радиации. Адаптивная радиация – следствие, во-первых, адаптаций к различным условиям среды, и, во-вторых, что еще важнее, следствие внутривидовой конкуренции, поскольку конкуренция особенно сильна между представителями одного вида, постольку видовая дивергенция непременно ведет к ослаблению конкуренции.
Каков же механизм дивергентной эволюции этносоциальных групп? По Гумилеву, он заключается в изоляции отдельных консорций и конвиксий, в результате которой они перерастают в субэтнос, а тот соответственно в этнос. Все же изоляция консорций и конвиксий – это не механизм образования субэтносов, а условие, причем необходимое, но не достаточное. Иначе как объяснить, что в одних случаях изоляция приводит к образованию нового субэтноса, а иногда и этноса, в других нет. Заметим, что Гумилев здесь не ссылается на пассионарные толчки, поскольку этим он объясняет образование главным образом только лишь макроэтнических систем – суперэтносов. Дальнейшая дифференциация суперэтноса на этносы, субэтносы и т.д. идет по собственным законам. Таким образом, им предлагается только лишь макроэволюционная модель этногенеза. Существование микроэволюционной модели лишь постулируется, и ей предоставляется вторичная роль. Заметим, что макроэволюционная модель биологической эволюции базируется на модели микроэволюционной, а не наоборот. Если предположить аналогию эволюции биологической с эволюцией этнической, в чем Гумилев не сомневается, часто даже несколько преувеличивая их общность, тогда и здесь должна быть та же закономерность. Следовательно, этногенез должен сводиться, в конечном счете, к микроэволюционной адаптивной радиации этносов в субэтносы, консорции и конвиксии, которые постепенно, при соблюдении ряда условий, включая, разумеется, и изоляцию, должны перерасти в самостоятельные этносы. Нам следует сконцентрироваться на поиске этих условий, и тогда такой механизм в общем виде будет ясен.
В целом такая микроэволюционная модель этногенеза, предложенная Гумилевым, достаточно очевидна, но могут ли консорции и конвиксии служить основой для формирования самостоятельных субэтнических групп? Ведь в них, по сути, выделяется особый тип прослойки общества, основанный на материальном благосостоянии, профессии или каком-либо специфическом образе жизни. Данные группы частично изолированы от остальной части собственного этноса, но достаточна ли такая изоляция для возможности формирования самостоятельных субэтнических образований? Ведь изолирующие барьеры между различными социальными группами внутри этносов весьма условны. Купец мог обеднеть и влиться в многочисленное племя простых горожан, или наоборот, купить дворянство и соединиться с высшим светским сословием. Точно так же изолирующие барьеры, например охотников-старателей или поморов-мореплавателей, весьма подвижны и условны. Уровень их внутреннего самосознания явно недостаточен для развития до ранга субэтноса, и тем более самостоятельного этноса. Все известные этносы были образованы в результате территориально-политической изоляции, когда часть территории, занимаемой этносом, отторгалась другим государством или значительно реже в результате изоляции географической. И неизвестно, в общем-то, ни одного случая, когда представители какой-либо профессии или сословия образовывали самостоятельный этнос. Ведь любая профессия предполагает специализацию, а любая специализация труда порождает зависимость от представителей других профессий. Значит, изоляция, столь необходимая для развития внутреннего самосознания здесь, по сути, невозможна. Господа зависят от своих рабов, рабы стремятся стать господами, где уж тут развиться уникальному самосознанию. Разве хотя бы одна консорция пуритан, квакеров, баптистов, роялистов и т.д., иммигрировавших в Америку, образовала самостоятельный этнос? Нет. Все они явились основой для формирования единого американского макроэтноса [33]. И если в некоторых североамериканских этнических группах прошлые этнические корни еще довольно сильны, то в этом есть заслуга стойкости их этнического самосознания и сохранения связи диаспор с прародиной, а вовсе не далекое эхо тех консорций первопроходцев, которые хоть и чтятся потомками, но не несут самостоятельной этнической ценности. Впрочем, конфессиональные консорции иногда могут порождать самостоятельные этносы, но только в тех случаях, когда ограничения экзогамии в таких группах достаточно жестки и устойчивы в исторической перспективе, что бывает сравнительно редко. Поэтому часто поликонфессиональные этносы могут веками сосуществовать, не распадаясь на отдельные самостоятельные народы.
Гумилев признает активную роль этноса только в плане недопущения возможности уйти со сцены мировой истории раньше положенного срока. Провиденциализм его концепции заключается в том, что фазы развития этносов определены довольно жестко, весь путь этнос проходит за 1200–1500 лет. Изменить ничего нельзя. Согласно воззрениям Гумилева, есть только одна возможность продлить срок существования этноса, если этнос перерастает в реликтовую культуру (мемориальная фаза этногенеза), при условии, если ему удается достичь гармоничного равновесия с образующим ландшафтом. Впрочем, это в чем-то равносильно гибели этноса, поскольку реликтовая культура малочисленна, пассивна и статична. В действительности этнические фазы развития варьируют значительно сильнее, от нескольких сотен лет до нескольких тысячелетий. Все зависит от размеров этноса (в малых этносах этническое развитие, значительно интенсивнее, а значит, и старение наступает раньше), а также от темпов развития. Замедлив темпы роста потребностей, человек может замедлить старение этноса. К сожалению, сейчас чаще наблюдается обратная тенденция, как правило, под влиянием более «цивилизованных» соседей, молодые культуры, быстро усваивая все хорошее и равно плохое, что присуще культурам зрелым, сами тем самым ускоряют свое старение. Даже человек в силах существенно повлиять на срок собственной жизни, культуры же значительно более изменчивы и пластичны. Главным образом все зависит от того, какой путь развития выберет этнос: интенсивный либо экстенсивный. Как писал Тойнби: «Догматически твердить вслед за Шпенглером, что каждому обществу предопределен срок существования столь же глупо, как и требовать, чтобы каждая пьеса состояла из одинакового числа актов» [66, с. 179].
Достоинства концепции Гумилева
Главной и наиболее содержательной частью концепции Гумилева можно считать идею пассионарности.
Благодаря необычайной эрудиции и трудоспособности Гумилеву удалось создать действительно интересную и масштабную концепцию, по глубине охвата сопоставимую даже с тойнбианской.
Органический подход к этногенетическим процессам. Этносы, как и все живое, рождаются, развиваются и умирают.
Гуманизм его концепции. Нет этносов низших и высших, есть только этносы на пике развития либо уже прошедшие его.
Неординарность и независимость концептуальных построений. С его идеями можно и хочется спорить, можно с ними не соглашаться, но трудно оставаться равнодушным к ним.
Недостатки
Механизм пассионарных толчков необоснован. В частности, непонятен источник энергетических импульсов, способ аккумуляции их человеком и механизм генетического всплеска пассионарности.
Географический детерминизм. Образующий ландшафт, в его концепции, имеет определяющее значение не только для формирования этносов, но и для их существования. Тем самым ставится под сомнение одно из важнейших достижений человечества, отсутствие прямой зависимости от окружающей среды.
Излишняя биологизация этноэволюции и генетический детерминизм. Важное место в его концепции занимает механизм биологической самоорганизации – «естественный отбор». К тому же он настаивает на исключительно генетической, наследственной природе пассионарности. Генетические факторы в действительности являются определяющими в процессах биогенеза, в эволюции же человеческого общества генетические изменения не имеют направленного характера.
Провиденциализм. Гумилев приводит весьма жесткие сроки существования этносов: 1200–1500 лет. Допускается все же возможность неограниченного существования этноса в том случае, если ему удается достичь состояния равновесия с образующим ландшафтом – гомеостаза (более подробно критический анализ пассионарной концепции Гумилева см. [67]).
2.3. Механизм этногенеза
По-видимому, механизм формирования этносов имеет бифуркационный характер. Под бифуркацией в синергетике подразумевают внезапное, скачкообразное и непредсказуемое изменение характера протекающих в системе процессов [68, с.147-153]. Сущность бифуркаций заключается в том, что сразу, после того, как накопление изменений в системе достигает какого-либо определенного критического порога, происходит резкий качественный скачок в ее содержании. При этом после прохождения критической точки, называемой точкой бифуркации, точно предсказать направление дальнейшего хода изменений в системе считается невозможным.
Например, в случае разделения водоема на две части неизбежно ограничение генетического обмена между разделенными популяциями гидробионтов (только той части флоры и фауны водоемов, которая живет и размножается исключительно в водной среде). В этом случае накопление различий, в результате мутаций, идет, как правило, быстрее, чем сглаживающая роль ограниченного обмена генами между ними (аллопатрическое видообразование). Такое ветвление ничего общего с бифуркацией не имеет. Нарастание различий, в принципе, предсказуемо, плавно и обратимо. Достаточно упомянуть, что если эти части водоема вновь объединятся, тогда все накопленные различия безболезненно и быстро сойдут на нет. Когда же к экологической изоляции популяций указанных частей водоема добавится генетическая изоляция, после того как нарастание подвидовых различий достигнет уровня видовых, дальнейшее нарастание различий значительно ускорится. И действительно, сглаживающее влияние, заключающееся в межпопуляционном генном обмене, в последнем случае окончательно прекратится в результате того, что здесь к географической или биотопической изоляции добавится репродуктивная изоляция. Разные виды, как правило, не скрещиваются. Одной из главных причин не скрещиваемости можно назвать невозможность конъюгации гибридных хромосом при мейозе, вследствие их несовместимости. Значит, накопление генетических различий достигнет точки бифуркации тогда, когда эти различия станут уже слишком значительными для возможности хромосомной конъюгации. Нелинейное, экспоненциальное развитие вновь образуемых видов приведет, в последнем случае, к столь резкому изменению устоявшегося экологического равновесия в цепях питания, что это может привести к самым непредсказуемым последствиям. Кстати, в данном случае «репродуктивная изоляция может быть не только результатом, но и в известной мере причиной дальнейшей дивергенции» [69, с. 18].
Но какое отношение все это имеет к этноэволюции? Человека нельзя полностью антиредукционистски отрывать от его биологической природы. И хотя природа самоорганизационных процессов в социальных системах качественно другая, общие закономерности сохраняются. Проще понять процессы этногенеза, сопоставив его с видообразованием. Этносы, конечно, не виды, но механизм этноэволюции в чем-то аналогичен видообразованию. Для иллюстрации такой общности проанализируем аналогичную ситуацию с изоляцией некоей группы людей от основного этноса. Накопление генетических различий в данном случае будет иметь второстепенное значение, значительно большую роль здесь приобретают язык, нравы, обычаи, традиции и т.п., т.е. самобытная культура этноса. Эволюционирует язык, трансформируются обычаи, нравы, видоизменяются этические принципы [34], и иногда может видоизменяться даже такая консервативная этническая ось, как религия. Стремление к созданию собственной автокефальной церкви связано, прежде всего, с желанием укрепить обособленность и независимость от праобразующего этноса. Если все эти изменения будут протекать в различных независимых частях одного этноса, неизбежно постепенное, эволюционное накопление различий. Но до тех пор, пока эти изолированные субэтнические общности не осознают себя в качестве отдельного и независимого этноса, указанные различия будут носить обратимый характер за счет генокультурной ассимиляции с образующим этносом.
По этой же причине накопление различий будет протекать чрезвычайно медленно за счет сглаживающего влияния смешанных браков, а также языковых и культурных заимствований. Но все в корне меняется после прохождения бифуркационного порога, который социально-этническая система проходит после осознания конкретной социальной группой себя в качестве самостоятельной этнической единицы (самосознание этноса). В последнем случае ассимилирующее влияние праэтноса в результате совместных браков, иммиграции и эмиграции резко сокращается. Важно при этом учесть, что основную изолирующую роль, предохраняющую формирующийся этнос от ассимиляции, играет не столько снижение числа смешанных браков, сколько это проявляется в стремлении к сохранению своей культурной самобытности и чистоты национального языка. Снижение заимствований в эпосе и фольклоре, сохранение традиций и обычаев и т.д. Биологические факторы переходят на второй план, уступая место социальным факторам. При этом после формирования этнического самосознания сразу включается целый комплекс защитных механизмов, сохраняющих достигнутую самобытность. И в общем-то вполне объяснимо, почему эти барьеры особенно жестки в молодых, малочисленных этносах и потому более подверженных ассимиляции. Запрет браков без родительского благословения, религиозная и этническая нетерпимость, целая система этических и даже законодательно закрепленных запретов – это далеко не полный перечень защитных механизмов. Все это – на языке синергетики – есть способы поддержания диссипативной системой, которой, безусловно, является этнос, квазиустойчивого равновесия или, что, впрочем, то же, устойчивого неравновесия. Если изолирующие барьеры исчезают до того, как была пройдена точка бифуркации, после которой накопленные различия принимают необратимый характер, тогда это может привести к самопроизвольной ассимиляции кандидата в новый этнос.
Приведем пример с казачеством, являющимся своеобразной субэтнической подгруппой русского этноса [35]. Здесь изолирующим фактором, способствующим этногенезу, являлось расположение исключительно на рубежах Российской империи или, во всяком случае, в ее наиболее опасных участках. Не менее существенным фактором изоляции являлись экономические льготы. С одной стороны, эмиграция ограничивалась чрезвычайно суровыми условиями в занимаемой казаками территории, с другой – иммиграция ограничивалась изнутри. Казаки ревностно охраняли свои привилегии. Что же помешало казакам выделиться в самостоятельный этнос? Ведь они не только не отпочковались от праэтноса, а, напротив, являются его этнонациональным ядром, наиболее ревностно охраняющим интересы русского этноса. По всей видимости, после формирования регулярной армии в России изолирующие барьеры снизились, поскольку в некоторых случаях слишком независимые казаки были помехой авторитарности Российской империи. Окончательный удар по формирующемуся этносу нанесла большевистская революция. Казаки, как известно, входили в число наиболее ревностных противников Советской власти и получили такой удар по своей самобытности, который сказывается до сих пор. Все это произошло до прохождения критического (бифуркационного) порога развития, и казачество так и не успело выделиться в полностью самостоятельный этнос. А вот воссоединение Украины с Россией произошло, напротив, уже после указанного критического бифуркационного порога. То же можно сказать и о чехах, и словаках, славянских народах Югославии, немцах и австрийцах. Южная Осетия и Абхазия, казалось бы, уже практически ассимилировались Грузией, однако последующие события показали, что самосознание народа гораздо сильнее кажущейся внешней этнической общности. Во всех случаях чем более жестка и интегрирована структура доминирующего этноса, тем сложнее преодолевается бифуркационный барьер, препятствующий выделению субэтноса в самостоятельный этнос.
Практически невозможно уловить ту грань, когда происходит бифуркационный скачок к новой этнической реальности, поскольку главный и определяющий критерий – этническое самосознание – весьма субъективен и относителен. Самосознание редко бывает одноуровневым, по одну сторону этнического самосознания лежит самосознание субэтническое, самосознание консорций и конвиксий, по другую – с этническим самосознанием соседствует макроэтническое самосознание, либо даже государственное или суперэтническое и конфессиональное («мы купеческие», «мы поморы», «мы русские», «мы славяне», «мы россияне», «мы православные»). И далеко не всегда этническое самосознание бывает сильнее прочих. К тому же в критические периоды истории всегда возрастает самосознание того уровня, которое испытывает наиболее сильное давление извне, либо изнутри. Поэтому сложно уловить тот момент, когда самосознание субэтническое вырастет до уровня этнического. Косвенно эту грань обозначает появление нового этнонима, самоназвания этноса. Но и этот критерий нельзя считать полностью достоверным, поскольку субэтносы также иногда имеют собственный уникальный этноним, точнее его можно назвать субэтнонимом.
Итак, главным внутренним источником этногенеза является формирование нового этнического самосознания, главным же внешним источником можно назвать изоляцию. Какие же основные изолирующие барьеры могут быть источником этнических процессов? Основным внутренним источником такой изоляции является опять-таки этническое самосознание, поскольку именно оно заставляет отдавать предпочтение эндогамным браками и отдавать предпочтение собственным деятелям культуры, испытывать гордость за своих героев. Именно оно наполняет нас любовью к собственной культуре и языку. Самосознание не только следствие, но и источник этногенеза. Такое образование замкнутой причинно-следственной петли является характерным признаком нелинейных диссипативных систем. Очевидно, что высокий социальный статус этноса создает повышенный уровень привлекательности не только для членов данной общности, но и для потенциальных новых ее членов. Поэтому чем активнее развивается этнос, тем активнее идет привлечение новых членов и меньше потери собственных. Значит, нелинейный характер будет иметь как развитие этноса, так и его угасание.
Гумилев пишет: «В становлении первичного коллектива, зародыша этноса, главную роль играет неосознанная тяга людей определенного склада друг к другу. Такая тяга есть всегда, но когда она усиливается, то для возникновения этнической традиции создается необходимая предпосылка. А вслед за тем возникают социальные институты» [54, с.269]. И это, в общем, верно, но взаимная тяга людей не первична, она возникает как результат некоей общности, а общность эта возникает после того, как эта группа продолжительное время находилась в изоляции и в результате накопила общие черты и различия с прочими субэтническими группами. Именно осознание того, что они похожи друг на друга больше чем, на других, и создало эту взаимную тягу. Значит, первична не взаимная тяга неизвестно от чего вдруг возникающая, а изоляция и осознание общности, а это и есть этническое самосознание.
В биологии существует понятие – симпатрическая изоляция, это когда два близких подвида или две популяции, занимая одну территорию, тем не менее не смешиваются друг с другом. Часто это бывает следствием этологических (поведенческих) барьеров. Точно так же и самосознание этноса служит источником такой симпатрической изоляции при совместном проживании различных этносов на одной территории. И все же симпатрическая изоляция сама собой не может возникнуть, до формирования собственного этнического самосознания. Для образования внутренних этнических барьеров изначально необходимы барьеры внешние, основанные на внешней изоляции. В животном мире видообразование, как правило, связано с географической или с биотопической (как в описанном случае с разделением водоема) изоляцией. В этногенезе географические барьеры, как правило, играют значительно меньшую роль, поскольку для человека на Земле не существует непреодолимых препятствий. Но в некоторых случаях этнические процессы могут быть обусловлены географической изоляцией (острова, горный рельеф с непреодолимыми ущельями, изолированный материк).
И все же это не объясняет того, почему в наиболее благоприятных уголках Земли, где самым серьезным изолирующим барьером служит река, мы так же обнаруживаем весьма пестрый этнический состав. Это объясняется наличием гораздо более серьезных изолирующих барьеров социальной природы, и это, прежде всего, барьеры государственные. Можно привести множество случаев, когда именно государственные или же административно-территориальные барьеры способствовали формированию новых этносов.
В XIV веке Русь потеряла Киевское княжество, которое отошло частично Литве, частично Польше, и только в середине XVII века России удалось вернуть левобережную часть Украины. Трех веков оторванности от России оказалось достаточным для необратимого образования нового украинского этноса, и Украина воссоединилась с Россией уже в виде относительно независимой автономии. Правобережная часть Украины воссоединилась с Россией лишь в конце XVIII века, и, если бы не постоянные контакты Западной Украины с Восточной, здесь также мог бы сформироваться самостоятельный этнос. И именно поэтому уровень этнического самосознания в Западной Украине значительно выше. Примечательно, что антропологически, представители левобережной части Украины ассимилировались значительно сильнее, что не помешало не только сохранить уровень собственного этнического самосознания, но и повысить его. Это лишний раз доказывает, что для этнического единства биологическая (генеалогическая) общность играет весьма второстепенную роль, гораздо важнее общность духовная.
Аналогична ситуация и с белорусским этносом, который сформировался в XVI веке, после того как в течение двух веков был оторван от Руси. И, несмотря на то, что Белоруссия воссоединилась с Россией только в XVIII веке, белорусский этнос дивергировал значительно меньше от русского этноса. Видимо, это связано с тем, что на протяжении всего периода изоляции этнические контакты с Русью сохранялись, в частности, потому, что некоторые ее территории периодически отвоевывались Русью.
В малых этносах, в которых этнические процессы протекают по понятным причинам значительно быстрее, для этнической дифференциации требуется значительно меньше времени и достаточно частичной изоляции, связанной с весьма условными административно-территориальными границами.
Таким образом, этноэволюцию можно разделить на макроэтноэволюцию и микроэтноэволюцию. Макроэтноэволюция – это эволюция крупных этносов, суперэтносов и макроэтносов, к каковым можно отнести и нации крупных полиэтнических государств. Основными факторами макроэтнических процессов эволюции можно назвать государственно-политическую изоляцию и симпатрическую изоляцию на конфессиональной основе. Географическая изоляция играет значимую роль в макроэтногенезе только на уровне континентов. Впрочем, в Новое время ни один континент нельзя считать достаточно изолированным для этого. Для образования любой из названых макроэтнических групп требуются века. В процессах микроэтногенеза играют значимую роль уже значительно меньшие промежутки времени, в пределах нескольких десятилетий. Субъектами микроэтногенеза являются малые этносы и субэтносы. Здесь достаточными могут быть практически любые ландшафтные изолирующие барьеры, так или иначе затрудняющие свободное перемещение, такие, как горные ущелья, реки и т.д. Ярким примером микроэтноэволюции, как результата именно географической изоляции, может служить Дагестан, где на сравнительно небольшой территории проживает несколько десятков коренных народностей, что связано с изрезанностью значительной части территории Дагестана горными ущельями. Если говорить об изолирующих барьерах социального порядка, то здесь даже весьма условные границы автономно-территориального округа или штата могут оказаться достаточными.
Можно проиллюстрировать процессы микроэтногенеза на примере постепенного обособления двух осетинских субэтносов в самостоятельные этносы. Речь идет об иронцах и дигорцах. И хоть эти субэтнические общности не имеют общего этнонима на родном языке, а лишь на русском (осетины), говорить о том, что это самостоятельные этносы еще рано. Однако различная конфессиональная принадлежность этих субэтнических групп постепенно способствует все более глубокому их разобщению. Во времена Советского Союза религиозные различия были еще не существенны, но в Новое время они начинают играть уже все более значимую роль. И вот уже впервые, во Всероссийской переписи населения 2002 года, отмечены случаи этнического самоназвания «иронец» и «дигорец» в графе «национальная принадлежность». И хоть эти случаи еще редки, можно предположить, что эти субэтнические группы начали приближаться к необратимому порогу бифуркационного разделения. И это несмотря на то, что осетины, впрочем как и адыгские народы, никогда не отличались склонностью к радикальной религиозности. Иногда упоминают еще одну субэтническую общность осетин – «кударцы», или так называемые «южные осетины» (жители Южной Осетии). Кударский субэтнос – это не более чем миф, в действительности так себя называют лишь жители нескольких сел, при этом никак себя не обособляя от прочих иронцев как Южной, так и Северной Осетии [70]. Тем не менее частичная изоляция «южных осетин» со временем могла привести к их обособлению. Однако в настоящее время их вполне понятная тяга к России, как никогда ранее, способствует их интеграции с осетинами РСО–Алании.
В описанном случае, когда от великоросского этноса дивергировали украинский и белорусский этносы, по всем признакам можно констатировать, что это был макроэтногенез. Однако численность этих народов тогда не превышала численности современных малых этносов. Это противоречие только кажущееся. Указанные закономерности не являются застывшими и неизменными. Эволюционный подход необходим, в том числе и к самой эволюции. Биологическая эволюция все время ускоряется, точно так же и темпы этноэволюции постоянно возрастают. Ускорению этноэволюции ныне способствует большая скученность населения и высокая жизненная динамика. В наше время жизненные процессы протекают настолько интенсивно, что для достижения критического порога необратимости межэтнических различий требуется значительно меньшее время, и поэтому весьма условные барьеры могут оказаться достаточными.
Макроэтноэволюция прошлых времен имела еще одну важную особенность. Тогда единым этносом не могли ощущать себя достаточно большие группы людей, поскольку средства межличностных коммуникаций не были достаточно развитыми. А для того чтобы ощущать собственную сопричастность, нужна довольно тесная информационная связь, которая, конечно же, тогда была только на микроуровне. Тогда еще микроэтноэволюция была фактически неотделима от макроэтноэволюции. Поэтому понятие «римлянин» означало не больше, чем гражданин Рима, а «франк» не больше, чем христианин-католик. Крупные этносы и полиэтнические образования реально осознали себя единой нацией на государственном уровне лишь в XVI–XVII веках в Европе.
Кстати, в отношении биологического уровня развития материи еще отцы-основатели синтетической теории эволюции Симпсон и Майер подчеркивали, что видообразование протекает особенно интенсивно в малых изолированных популяциях. И здесь можно найти аналогию этногенеза с видообразованием. Конрад Лоренц в своем знаменитом труде «Агрессия» находил общность развития культур с видообразованием: «Развившиеся в культуре социальные нормы и ритуалы так же характерны для малых и больших человеческих групп, как врожденные признаки, приобретенные в процессе филогенеза, характерны для подвидов, видов, родов и более крупных таксономических единиц. Историю их развития можно реконструировать методами сравнительного анализа. Их взаимные различия, возникшие в ходе исторического развития, создают границы между разными культурными сообществами, подобно тому, как дивергенция признаков создает границы между видами. Поэтому Эрик Эриксон имел все основания назвать этот процесс «псевдовидообразованием» [18, с.86].
И так же, как для процессов видообразования играет решающую роль изоляция популяций, изоляция отдельных групп людей может способствовать выделению их в самостоятельный этнос. Частично такая изоляция связана с пограничными барьерами, ограничивающими эмиграцию и этнокультурную ассимиляцию. Но главное, такой изоляции способствует формирование особой формы самосознания нового уровня, самосознания государственного, которое сопоставимо и в некоторых случаях даже выше этнического. И если государственное самосознание настолько развивается, что вытесняет самосознание этническое на второй план, тогда формируется единый государственный полиэтнический макроэтнос, как, например, американская нация.
Государство является важнейшим этнообразующим фактором, поскольку государственный патриотизм, в ответственные для своей страны периоды, бывает часто выше этнического. Государства разделяют этносы, и в этих оторванных островках диаспор развиваются собственные этнические образования. Государства ассимилируют этносы в единую нацию. Государства сплачивают различные народы под общим флагом, заставляя забывать об этнических разногласиях. Государства имеют собственную душу, интегрирующую духовные начала различных народов и сплачивая их в единый кулак. Но когда этническое равновесие нарушается и уровень этнического самосознания начинает перехлестывать через край этнического равновесия, межэтнические распри могут взорвать государство изнутри. Поэтому стабильность в многонациональных государствах даже важнее внутриэтнических амбиций и нужно уметь усмирять национальный гнев, ставя государственные интересы выше этнических.
2.4. Пластичность: универсальный фактор
эволюционного процесса
В основе самоорганизационных процессов лежит борьба между «порядком» и «хаосом», между созиданием и разрушением. Другой важной стороной эволюционных процессов является противоречие между изменчивостью и устойчивостью. Но эти противоречия вовсе не идентичны. Устойчивость нельзя отождествлять с порядком, а изменчивость – с хаосом. Устойчивость направлена не только на противодействие разрушению, но и на противодействие новому созиданию. Изменчивость, в свою очередь, способствуя разрушению, при определенных условиях способствует и прогрессу. Категорию, отражающую диалектический синтез устойчивости и изменчивости, характеризующую устойчивую изменчивость или изменчивую устойчивость, можно обозначить как пластичность.
Как отмечает Франциско Х. Айала, «популяция, имеющая большие запасы генетической изменчивости, окажется в более благоприятном положении в случае возникновения в будущем изменений в среде. Вопрос о количестве изменчивости, имеющейся в природных популяциях, представляет собой, таким образом, один из наиболее важных для биологов вопросов, поскольку от этого в значительной мере зависит эволюционная пластичность (курсив – Д.М.) данного вида» [71, с.41]. Следует только добавить, что количество изменчивости имеет важное значение не только в природных популяциях.
Пластичность в данном контексте можно охарактеризовать как меру изменчивости в пределах определенного порога устойчивости. Иными словами, пластичность определяет пределы изменчивости, при которых система еще способна сохранить свою целостность.
Такое расширенное понимание термина «пластичность», выходящее далеко за рамки приведенного классического определения, уже давно практикуется многими авторами. Мы только осуществили попытку дать строгое научное определение трансформировавшегося стихийно понятия «пластичность».
Пластичность варьируется от предельно релятивисткой среды – хаоса, в котором она максимальна, поскольку в хаосе ничто не ограничивает изменчивость – до предельно закоснелой системы, в которой любое, даже малейшее изменение, приводит к разрушению. В последнем случае пластичность фактически нулевая. В действительности это идеализированные состояния, и в любом конкретном проявлении мы имеем дело с промежуточными состояниями.
Статистическим выражением, наиболее близко характеризующим текущую пластичность, является показатель – коэффициент вариации Cv. В данном случае пластичность, как и коэффициент вариации, будет измеряться в процентах или в долях единицы. Если же пластичность отражать через такие статистические показатели вариации, как дисперсия (s2) или среднеквадратическое отклонение (s), тогда она будет выражаться посредством тех же метрических показателей, что и анализируемые признаки. Конечно, следует учесть, что данный показатель (Cv) отражает пластичность не системы в целом, а лишь одного конкретного признака. Методом многофакторного анализа, объединив показатели коэффициентов вариации различных свойств, можно выразить математически пределы вариабельности (текущая пластичность) для системы в целом, конечно, в огрубленном, формализованном виде, поскольку отразить весь спектр признаков для сложных эволюционирующих систем принципиально не представляется возможным. Общую же пластичность для эволюционирующих систем математически выразить вообще предельно сложно в связи с неопределенностью постбифуркационного развития. Можно только косвенно регистрировать эффективность нахождения ответов на меняющиеся вызовы среды и ширину спектра нахождения ответов на меняющиеся вызовы среды.
Пластичность можно определить как меру изменчивости и одновременно как меру устойчивости систем, определяющую ширину спектра потенциально возможных устойчивых состояний и, в конечном счете, пределы адаптационных возможностей сложных эволюционирующих диссипативных структур.
Проиллюстрируем основные пути снижения пластичности систем (см. рис. 1).
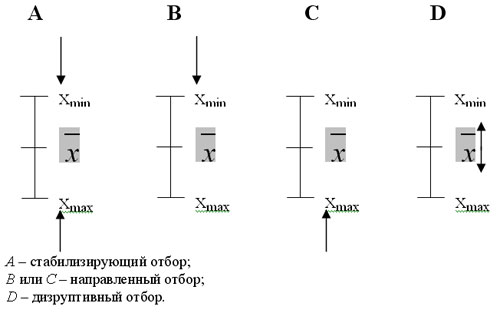
Рисунок 1. Основные направления снижения пластичности
На данных рисунках графически отображены основные пути динамического снижения пластичности. Рисунок A характеризует снижение пластичности в стабильных условиях среды, когда происходит изъятие наиболее крайних по характеристикам элементов.
Рисунки B и C показывают основное направление смещения средних показателей элементов, когда один из факторов среды начинает меняться, соответственно смещается средний показатель приспособленности к данному фактору. В результате происходит преимущественно одностороннее изъятие элементов. Направленный отбор, хоть и не так явно, как стабилизирующий отбор, но закономерно ведет к снижению пластичности. «Во множестве, подвергаемом однозначному преобразованию, разнообразие не может увеличиваться, но обычно будет уменьшаться» [72, с.193].
На рисунке D показано, как может происходить изъятие одновременно в двух направлениях. Иначе говоря, система адаптируется одновременно по двум альтернативным направлениям.
Таким образом, в стандартных условиях, типичных для конкретной эволюционирующей системы, под действием стабилизирующего отбора пластичность неизменно сокращается. И это тактически оправданно, поскольку наиболее эффективно функционирующими системами оказываются именно такие структуры, в которых наибольшая доля элементов удовлетворяет этим стандартным условиям. Казалось бы, системы под действием стабилизирующего отбора приближаются к оптимуму устойчивости. И это действительно так, но только в стабильных условиях, когда колебания внешних условий не смещаются в какую-либо сторону. В последнем случае элементы, имеющие показатели, далекие от среднестатистических, могут оказаться в оптимуме. Поэтому в крайних, по характеристикам пределов устойчивости, элементах заложен потенциал устойчивости в нестабильных условиях внешней среды. Гиперустойчивость для сложных эволюционирующих систем так же губительна, как и неустойчивость.
В реальности скрытая потенциальная пластичность значительно выше текущей, т.к. суммарную изменчивость точнее было бы подсчитывать с учетом элементов, не существующих в настоящий момент, но имеющих потенциальную возможность продуцирования системой. На примере живых систем это выражается в комплексе различных рецессивных признаков (признаки, присутствующие в наследственном аппарате, но проявляющиеся фенотипически только в гомозиготном состоянии), которые напрямую практически не влияют на текущую изменчивость популяции, но, проявляясь, могут резко ее повысить. Поэтому избирательного изъятия крайних элементов недостаточно для снижения пластичности системы. Это произойдет лишь тогда, когда система потеряет также и некоторые другие элементы, способные продуцировать те крайние, изъятые из выборки элементы. Иными словами, скрытая потенциальная изменчивость элементов позволяет возобновлять текущую изменчивость. Поэтому лишь непрерывное и достаточно длительное однонаправленное воздействие факторов среды способно реально снизить пластичность системы, что, впрочем, способно лишь замедлить темпы неизбежного динамического снижения пластичности. Например, допустим, что мы будем изымать из отары только черных овец. Черные овцы будут рождаться вновь, поскольку черный цвет заложен в генотипе некоторых белых овец. Но если это изъятие проводить на протяжении длительного периода, тогда мы снизим и текущую, и потенциальную изменчивость окраса.
Пластичность можно охарактеризовать как показатель, определяющий число потенциально возможных устойчивых состояний. Число адекватных решений устойчивости зависит как от условий внешней среды (характеристик образующей надсистемы), так и от внутренних возможностей системы. Число возможных бифуркаций всегда конечно, и, согласно Н.Н. Моисееву, неопределенность постбифуркационного развития частично детерминируется пределами ограниченного поля [73]. Как указывает А.П. Назаретян: «Синергетическое моделирование позволило строго доказать, что даже в точках неустойчивости может происходить не «все что угодно»: количество реальных сценариев, называемых иначе параметрами порядка, всегда ограничено» [27, с.18]. В подтверждение ограниченности поля бифуркационных решений можно упомянуть о многочисленных случаях канализации развития, параллелизмов и конвергенции [36]. Косвенно эту ограниченность подтверждает и закон гомологических рядов Н.И.Вавилова [74]. В общественных структурах также мы нередко отмечаем случаи, когда многие общности принимают одинаковые, часто даже весьма специфические, решения независимо друг от друга. Если бы число бифуркационных решений было неограниченным, тогда вероятность нахождения общего пути была бы весьма ничтожной.
Оценить ширину диапазона постбифуркационных решений устойчивости довольно сложно, проще сравнить ее между родственными эволюционирующими системами. Именно ширина этого диапазона определяет конечный потенциал системного развития, который мы и характеризуем как пластичность. Пластичность системы представляется в виде множества потенциально возможных бифуркационных решений, приводящих к образованию достаточно устойчивых структур или в виде числа степеней свобод дальнейшего развития, причем не обязательно прогрессивного. Глубина возможного разрушения или упрощения системы, при которой она еще в состоянии сохранить свою целостность, также ограничивается пластичностью. Пластичность фактически является отражением ограниченности числа эффективных решений устойчивости. Пластичность отражает ограниченность допустимых пределов внешних условий, при которых система еще способна к достижению состояния квазиустойчивого равновесия. Иными словами, чем выше пластичность, тем при более высоких значениях катастрофического всплеска внешних условий среды система способна вернуться в свое изначальное (или близкое к изначальному) условно равновесное состояние.
Несмотря на некоторые возможности возрастания пластичности, в результате повышения разнообразия элементов в системе в целом следует признать, что пластичность имеет тенденцию к неуклонному снижению. Поэтому следует считать пластичность ограниченным ресурсом развития эволюционирующих систем. Можно привести множество примеров догматизации, стагнации, закостенелости, узкой специализации, консервативности как следствий динамического снижения пластичности и стабилизирующего отбора. Известно, к примеру, что реликтовые виды животных и растений характеризуются чрезвычайно низкой изменчивостью и, как следствие, могут существовать только в чрезвычайно узком спектре внешних условий (стенобионты). С последним свойством, кстати, связана и весьма высокая спорадичность ареалов стенобионтных реликтов, вплоть до обитания в единственной локализованной географической зоне (узкоареальные эндемики). Стенобионты, как известно, отличаются весьма низкими показателями коэффициента вариации (Cv) по большинству морфофизиологических признаков.
Любые системные структуры человеческого общества по аналогичным причинам, связанным с сокращением пластичности, с течением времени становятся все более консервативными и требовательными к стабильности. Растет непримиримость к левым и правым радикалам. В стареющих общественных институтах репутация и надежность компаний становятся приоритетней прибыльности.
Коренная революционная ломка научных парадигм, смена исторических фаз и многое другое объясняются несовместимостью накопившихся изменений со старой, глубоко интегрированной и потерявшей былую пластичность структурой. Поэтому следует особо подчеркнуть, что пластичность не ограничивает изменчивость как таковую, она лишь ограничивает ее в рамках конкретной системной структуры. Противоречия между утвердившейся устойчивостью и угасающей изменчивостью разрешаются после последующей бифуркации.
В музыкальной школе начинающий музыкант может переквалифицироваться и перейти, например, со скрипки на фортепиано, но после того как его профессиональные навыки достигнут определенного уровня, он в качественно ином профиле уже не достигнет даже сравнимого уровня мастерства. Для биологических систем это явление было описано Копом. По этому поводу можно упомянуть следующее высказывание В.А. Красилова: «Только неспециализированные, задержавшиеся в своем развитии могут дать что-то новое (Дарвина в детстве считали отсталым ребенком; Эйнштейн тоже приписывал свои открытия замедленному развитию). Словом, чтобы продвинуться вперед, надо отступить назад. Как человек набожный, Коп видел в этом подтверждение слов Христа: пока не станете, как дети, не попадете в царство божие» [75, с.19].
Пластичность человеческого сознания также не беспредельна, она ограничивается на нейрофизиологическом уровне всё возрастающим порогом возбудимости нейронов, а на уровне сознания – ростом консервативности сознания в результате формирования все более жесткого идейного скелета (возрастания кооперативности сознания). Наши знания постоянно подвергаются испытаниям, одни идеи подтверждаются, другие отсеиваются, как ложные. Таким образом, здесь действует тот же принцип селективного отбора. Многократно подтвержденные идеи включаются в структуру основополагающего аксиоматического скелета – гештальта. С течением времени аксиоматический скелет занимает все большую долю нашего сознания, формируются убеждения, которые мы никоим образом менять не согласны. Но жизнь меняется, и все чаще наши устоявшиеся идеалы входят в противоречие с новыми реалиями. Дело не только в количестве аксиоматических идей, но и в их кооперативной взаимозависимости. Отказавшись от одной из них, мы рискуем разрушить все, во что мы верили, потерять идейную опору всей нашей жизни. И чем старее сознание, тем ниже вероятность смены гештальта. Думается, что данные процессы не только неизбежны, но и необходимы, поскольку устоявшиеся идеалы являются основой устойчивости общества. Как писал Винер, «вся наша жизнь построена по принципу «Шагреневой кожи» Бальзака, и самый процесс обучения и запоминания истощает наши способности, пока жизнь не расточит наш основной капитал жизнеспособности» [28, с.192].
Развитие устоявшихся идей как на уровне индивидуального сознания, так и на уровне сознания общественного конечно же практически оправданно, но несет в себе и целый ряд отрицательных следствий. Стареющее сознание гораздо лучше защищено от ошибок, но оно и значительно менее способно продуцировать качественно новые внепарадигмальные идеи. Как отмечает Е.Н. Князева: «Активное допущение нерационального, даже глупых идей и мыслей есть механизм выхода за пределы стереотипов мышления и прорыва к новому» [76, с.77]. Не стоит только забывать, что все указанные закономерности носят статистический характер и старость подчас бывает пластичнее и мобильнее иной молодости. Закономерны процессы снижения пластичности, но их темпы и начальный потенциал могут сильно различаться.
Снижение пластичности имеет еще один немаловажный аспект в человеческом обществе. Как известно, в животном мире, да, впрочем, и у человека, осуществляется двойная стимуляция поведения. С одной стороны, это стимуляция к ограничениюнеудовольствия, с другой – к росту удовольствия. К чему приводит возрастание уровня жизни? К росту уровня потребностей, а значит, стимулы удовольствия неуклонно сокращаются. Стимулы неудовольствия также снижаются, поскольку они попросту все более нейтрализуются ростом благосостояния. Подобно прыгающему резиновому шарику, зажатому между двумя дощечками, между которыми расстояние все время сужается, снижение мотивационной пластичности человека принуждает его взаимодействовать во все более узком пространстве удовольствия–неудовольствия. Приливы страданий и радости, по образному выражению Конрада Лоренца, сменяющие друг друга по воле природы, спадают, превращаясь в мелкую зябь невыразимой скуки. «Возрастающая нетерпимость к неудовольствию – в сочетании с убыванием притягательной силы удовольствия – ведет к тому, что люди теряют способность вкладывать тяжелый труд в предприятия, сулящие удовольствие лишь через долгое время» [77, с.23]. Лоренц считает, что в этом одна из основных причин все большей инфантилизации западного человека. У человека развивается привычка к сильным и постоянно усиливающимся раздражителям, человек подобно ребенку теряет способность привязываться к чему-либо. Теряет способность опираться на прошлое и ориентироваться на будущее, им овладевает «неофилия», стремление к постоянному обновлению внешних мотивационных раздражителей удовольствия. Эти процессы выравнивания мотивационных стимулов Лоренц, по аналогии с известным термодинамическим парадоксом, назвал «тепловой смертью эмоций».
Исходя из концепции пластичности, вероятно, можно решить некоторые, ранее не решенные загадки. Почему передовые экономики развитых стран гораздо болезненнее реагируют на любые глобальные политические изменения в мире? Думается, ответ напрашивается сам собой.
Если факт динамического снижения пластичности на протяжении жизненного цикла какой-либо сложной эволюционирующей системы достаточно очевиден, то в исторической, филогенетической динамике снижение пластичности уже далеко не так однозначно. И в самом деле, после бифуркации система обновляется, сбрасывается отжившее, закостеневшее. Диссипативная структура возрождается в новом обличье. Бесстрастные часы бытия, по мере сокращения пластичности, приближают логический конец, но после бифуркации все как бы вновь возвращается «на круги своя» и бальзаковская «Шагреневая кожа» восстанавливает свой былой размер. Даже великий пессимист Шпенглер в закате античной, европейской или любой другой культуры видел только начало рождения культуры новой, столь же молодой и динамичной. И все же нельзя отрицать, что груз преемственности не может не ограничивать свободу развития новой структуры. Для полного обновления и полного освобождения недостаточно футуристического – «мы старый мир разрушим до основанья, а потом…». У основания не должно остаться ничего, включая и самих разрушителей, иначе все равно останутся коросты, тормозящие свободное саморазвитие. Новая культура наследует пережитки старой культуры, вновь образуемые биологические виды, сколь бы радикально они ни менялись, все равно сохраняют старую и, казалось бы, отжившую биологическую основу.
Фазовый переход только в системах неживой природы может приводить к полному обновлению. Одним из важнейших свойств биологических и социальных систем является преемственность достигнутого уровня порядка, следовательно, не остается ничего другого, как сохранять, хотя бы частично, структуры отжившие и потерявшие былую пластичность, или все начать с начала, уничтожив все до основания. Благодаря преемственности живые и социальные системы всегда сохраняют связь с прошлым. Для полного обновления цивилизации, к примеру, пришлось бы уничтожить не только основы политической, духовной и хозяйственной культур, но и все накопленные знания и даже людей – носителей архетипов ушедшей культуры. Отсюда становится понятной позиция Шпенглера, который, как известно, не признавал преемственности развития цивилизаций.
Вместе с тем развитие различных культур тесно взаимосвязано. Многие наиболее значительные достижения ушедших цивилизаций не просто аккумулируются человечеством, но и создают дополнительные условия формирования единой, интегрированной общественной структуры. Преемственность между культурами, пронизывающая невидимой нитью все ушедшие и существующие цивилизации, и формирует глубоко интегрированную целостность всей общечеловеческой культуры. Отрицание Шпенглером ценностной значимости преемственности культур сводит историческое развитие к механистическому кружению по одной и той же цепи побед, поражений, открытий и ошибок. Такого же мнения придерживается и Тойнби, которого многие несправедливо причисляют в сторонники теории автономных культур: «Если гибель одной цивилизации вызывает таким образом рождение другой, не получается ли так, что волнующий и на первый взгляд обнадеживающий поиск главной цели человеческих усилий сводится в конечном счете к унылому круговороту бесплодных повторений неоязычества? Для нашего западного мышления циклическая теория, если принять ее всерьез, сведет историю к бессмысленной сказке, рассказанной идиотом» [78, с.274]. Именно благодаря преемственности развития мы обнаруживаем во всех биосоциальных системах некое единство. Аристотель считал, что причина нескончаемости развития заключается в том, что возникновение нового есть уничтожение старого, но ведь известно, что в биологических и социальных системах старое всегда частично сохраняется.
Таким образом, базовая пластичность может только локально, частично возрастать за счет освобождения от наименее пластичных элементов (подструктур) и приобретения структур качественно новых и потому весьма пластичных.
Селективное изъятие преимущественно несредних элементов (свойств) системы не единственный фактор динамического (возрастного) снижения пластичности. Другим, вероятно столь же важным, фактором можно считать расширение, по мере развития и старения сложных эволюционирующих систем, глубины координационных межэлементных связей. Иными словами, рост интеграционной взаимозависимости подсистем (элементов) приводит к сокращению числа степеней свобод дальнейшего развития, снижает возможности внутренних перестроек. По мере расширения интеграционной взаимосвязи подсистем в системах, все большее число бифуркационных решений оказывается заведомо неприемлемыми с точки зрения сохранения состояния квазиустойчивого равновесия. В предельно интегрированных структурах взаимозависимость элементов и подсистем уже настолько возрастает, что глубокая реорганизация любой ее части может привести к разрушению всей системы по принципу карточного домика.
В организмических системах это проявляется, в частности, в снижении доли полезных мутаций, снижении регенерационной способности и глубины модификационной изменчивости, во все большей взаимозависимости в популяционных цепях питания и т.д. По этому поводу можно упомянуть и работу Ю. А. Жданова, Е. П. Гуськова и О. А Бессонова «Причины вымирания видов». В ней, в частности, обосновывается мысль о том, что вымирание видов – процесс не случайный (связанный, например, с бесхозяйственным отношением человека к природе или с катастрофами), а закономерный, «гибель видов млекопитающих и птиц за время исторического существования человека не является результатом чьих-то целенаправленных действий. Просто они исчерпали свой филогенетический срок существования: численность вида упала, сузился их ареал и снизилась адаптивность. Поэтому совершенно не существенно, как закончит жизнь последний представитель вида – погибнет от старости или от рук человека» [79, с.17].
В процессе интеграции общественно-политической структуры все сложнее проводить реформы, не вступающие в противоречие со сложившимися координационными связями. Наглядно это можно проиллюстрировать на примере попытки французского правительства ввести общемировую децимальную систему счисления времени (в минуте сто секунд, в часе сто минут и т.д.). При рассмотрении такой возможности выяснилось, что для этого пришлось бы не только заново переоснастить конвейеры часовых заводов, но и напечатать новые календари и карты (разметка карт на параллели и меридианы, также ведется на основе временного деления) и провести еще целый ряд сопутствующих реформ. Несомненно, в древнем мире данную реформу было бы провести значительно проще. Напротив, в наше время, когда интеграция общества достигла новых высот, все еще сложнее. Достаточно упомянуть, что даже, казалось бы, такая ничтожная задача, как решение проблемы двухтысячного года, обошлась миру в миллиарды долларов. Можно предположить, что проблема тысячного года была несколько скромнее. Трудно вообразить, насколько еще снизится пластичность общества в будущем, если процессы структуризации пойдут теми же темпами.
Согласно «теории перестроек», одной из важнейших составляющих современной «теории катастроф», величина ухудшения, необходимого для перехода в лучшее состояние, сравнима с финальным улучшением и увеличивается по мере совершенствования системы. Слабо развитая система может перейти в лучшее состояние почти без предварительного ухудшения, в то время как сильно развитая система, в силу своей устойчивости, на постепенное непрерывное улучшение не способна [80, с.101]. Исходя из вышесказанного, можно заключить, что системы, совершенствуясь, совершенствуют аппарат микроадаптаций и вместе с тем все сложнее поддаются макроадаптационным (ароморфозным) процессам, и в конечном счете наступает момент, когда необходимый порог ухудшения в процессе перестройки опускается ниже допустимого уровня, при котором система еще способна сохранить свою целостность.
А.М.Буровский также отмечает, что у сложной системы ниже порог летального воздействия, т.е. в целом прогрессивное развитие эволюционирующих систем приводит к росту их уязвимости, к сокращению сроков их бескризисного существования [81]. Такого же мнения придерживался и старейший русский этнограф С.М. Широкогоров: «Чем сложнее организация и выше форма специального приспособления, тем короче бытие вида» [51, с.118].
В природе, наряду с чрезвычайно изменчивыми свойствами, есть и практически неизменные признаки. Впрочем, это в равной мере верно и для человека. Каменный топор оставался в практически неизменном виде по меньшей мере 1 200 000 лет. Чрезвычайно устойчивой в своей базовой конструкции является и большая часть древнейших изобретений человека, многие из коих до сих пор сохранились в первозданном виде, тогда как самые современные изобретения устаревают, едва сойдя с конвейеров. Видимо, пластичность древнейших изобретений, которая выражается в определенном спектре функциональной применимости для человека, изначально была значительно выше. Тот же топор и ныне вполне удовлетворяет потребностям как полинезийского охотника, так и российского мясника.
Аналогичную картину можно наблюдать при рассмотрении определенных структур живых организмов. Те признаки, которые они приобрели еще у самых истоков органической эволюции, до сих пор чудесным образом сохраняются в неизменном виде, тогда как более поздние адаптивные свойства очень быстро, по геологическим масштабам, превращаются в изживший себя палеонтологический материал. Видимо, и здесь причина «живучести» та же, древнейшие свойства жизни хоть и малоизменчивы, но изначально нацелены на широчайший спектр адаптивности. И несмотря на то, что эти признаки по определению уже изначально менее изменчивы, реально, в филогенезе они оказываются значительно пластичнее. Дело в том, что эти признаки либо значительно менее зависимы от динамики изменений внешних условий, либо эти признаки изначально рассчитаны на широчайший спектр внешних условий. Например, внутренняя структура эукариотической клетки не меняется даже в деталях уже около двух миллиардов лет. Да в этом и нет особой необходимости, многоклеточные организмы адаптируются уже не на клеточном уровне, а на уровне конкретных адаптивных структур, для которых клетки лишь строительный материал и биохимический котел. Одноклеточным же формам вполне хватает высочайшего ресурса пластичности, который к тому же поддерживается на этом уровне посредством генной трансдукции для возможности адаптаций в пределах уже существующих клеточных структур. Как пишут К.М. Завадский и Э.И. Колчинский, «все эволюционные новшества капитального значения удерживаются с поразительной стойкостью в течение миллионов поколений, так, как это известно, например, для клеточных органелл и цитобиохимических циклов реакций… в некоторых отношениях эволюция на нашей планете завершена примерно два миллиарда лет назад, я имею в виду биохимический аппарат живого вещества, основных биохимических процессов» [82, с.77].
Фактически приобретение новых и все более сложных адаптивных структур идет подобно постройке многоэтажной пирамиды («Ханойская башня»), в которой нижние этажи занимают хоть и малоизменчивые, но обладающие более высоким потенциалом пластичности признаки. Структуры каждого последующего этажа при филогенетическом морфообразовании вынуждены ориентироваться на совместимость с уже имеющимися структурами и потому изначально оказываются менее пластичными.
Все это в равной мере верно и для отдельных биологических видов. Как правило, более примитивные древние виды оказываются эволюционно более устойчивыми, и это тем более удивительно с учетом того факта, что они в большей степени подвержены мутационной изменчивости и гораздо быстрее обновляют генерации. Анализируя эти факты, Э. Майр пишет: «Мы снова и снова обнаруживаем остатки многочисленных и, по-видимому, преуспевающих родов, которые остались в основном неизменными на протяжении миллионов лет. Возможно, такая фенотипическая и генотипическая стабильность обусловлена наличием исключительно хорошо сбалансированного эпигенотипа» [83, с.405]. Но тогда встает закономерный вопрос, почему, как правило, более сбалансированный эпигенотип оказывается у более простых жизненных форм, ведь эволюция должна идти в сторону повышения такой сбалансированности, а не снижения ее? По-видимому у простейших жизненных форм высокая пластичность не только упрощает возможность изменяться, адаптируясь к новым условиям, но и позволяет адаптироваться, не меняя своей структуры.
Можно предположить, что и процессы адаптивного, дивергентного видообразования протекают по аналогичной модели постройки «Ханойской башни», впрочем, это в равной мере верно и для социальных структур. Попробуем подробнее обосновать эту иерархическую модель. Любая диссипативная система стремится к максимально возможной экспансии в окружающем пространстве, выходя далеко за пределы оптимального уровня внешних условий среды. Система, таким образом, стремится к расширению, приближаясь к пределам пессимальности [37] условий на границах функциональных ниш. Например, рост популяций ограничен пределами, заданными климатическими условиями среды и некоторыми биотическими факторами. Для рыночной системы расширение функциональной ниши сводится к расширению спектра участвующих в обороте товаров и услуг, а также способов и объемов их реализации. Основным ограничивающим ресурсом роста рыночной системы можно считать покупательский спрос. При пресыщении спроса, когда рыночная структура разрастается до своих пределов, рост ее закономерно останавливается.
Образование новых адаптивных структур, ориентированных на несколько иной, менее доступный спектр ресурсопотребления, в условиях, близких к оптимуму, в целом бесперспективно. Но на границах функциональных ниш возникновение таких элементов уже вполне оправдано, поскольку стремление к переходу на новый тип ресурсопотребления является следствием стремления к ослаблению внутренней конкуренции, которая в пессимальных условиях особенно высока. Например, после насыщения спроса на наиболее необходимые и очевидные предметы потребления и услуги, рыночная система начинает искать уже более специфические пути своего роста. Переход же в результате внутренней реорганизации на более труднодоступный тип ресурсов либо к существованию в нишах с более жесткими условиями среды, очевидно, должен быть связан с усложнением организации. Иными словами, прогрессивные бифуркации, как правило, приводят не к смене старой и якобы отжившей группы элементов, а к расширению системы в новые, менее благоприятные ниши. После насыщения вторичной ниши формируются еще более сложно организованные элементы, ориентированные на третичную нишу и т.д. Например, повышение социального статуса человека обычно приводит к тому, что он попадает в социальную среду, в которой требования к его финансовым и реже интеллектуальным возможностям соответственно выше, поэтому легче жить ему не становится.
Таким образом, генеральная линия эволюции сохраняет прогрессивную направленность практически только на функциональной периферии. Поэтому бремя прогрессивной эволюции несет лишь малая часть эволюционирующих систем, и каждая последующая образуемая система вынуждена ориентироваться на все менее доступные ресурсы и распространяться во все более агрессивную среду. Именно этим можно объяснить тот факт, что каждая последующая сложная эволюционирующая системная группа, как правило, занимает более узкую и специфичную нишу и имеет более прогрессивную внутреннюю структуру («фрактальная эволюция»).
Сложные эволюционирующие системы по мере глобальной системной экспансии формируют своеобразную иерархическую пирамиду. Нижние и более объемные этажи этой пирамиды занимают наиболее пластичные простейшие представители эволюционирующих систем. Верхние этажи, напротив, будут включать в себя наименее пластичные и наиболее прогрессивные системы. При изначально малой пластичности наиболее прогрессивные эволюционирующие системы за высокую индивидуальную устойчивость расплачиваются снижением устойчивости филогенетической, исторической. Каждая последующая группа элементов, будучи ориентированной на менее доступные и менее обильные ресурсы, будет соответственно и на порядок менее объемна и более малочисленна. В этом и заключается основная суть концепции иерархического развития систем – прогрессивное системное развитие идет по принципу постройки многоэтажной пирамиды («Ханойская башня»). Например, при рассмотрении научных парадигм можно убедиться, что электромагнитная теория не только не заменила ньютоновскую механику, но и занимает более скромную, хоть и более технологичную нишу, то же можно сказать и о квантовой механике, и о теории относительности. Только на переднем крае науки происходит прогрессивный рост с возрастанием требовательности к технологиям и капиталовложениям. Нетрудно убедиться, что и для всех других известных сложных систем пирамида прогрессивных ароморфозных бифуркаций строится по той же схеме «Ханойской башни»: новейшие изобретения устаревают и модифицируются значительно быстрее традиционных; экологическая пирамида, в которой каждый последующий этаж занимают, как правило, более прогрессивные жизненные формы; кастовая или сословная иерархическая пирамида и т.д. Кстати, и более молодые этносы развиваются, как правило, значительно быстрее древних, но и вырождаются тоже значительно раньше их.
Аналогичную картину можно проиллюстрировать на примере хронологической таблицы продолжительности исторических фаз развития человеческого общества (см. таблицу 1, цит. по [84, с.65]).
| Название исторических фаз | τ — по Дьяконову | τ — расчетная |
| Первобытная | 30·103 лет | 24,3·103 лет |
| Первобытнообщинная | 7·103 лет | 8,1·103 лет |
| Ранняя древность | 3,5·103 лет | 2,7·103 лет |
| Средневековье | 1·103 лет | 0,9·103 лет |
| Абсолютное постсредневековье | 0,3·103 лет | 0,3·103 лет |
| Капиталистическая | 0,1·103 лет | 0,1·103 лет |
| Посткапиталистическая | ? | ≈33года |
Таблица 1. Сравнительный анализ продолжительности исторических фаз
Ограниченность ресурса пластичности исторических фаз выражается главным образом в уровне человеческих потребностей, которые, в принципе, реально удовлетворить в рамках данной общественно-экономической структуры. Каждая последующая историческая фаза не только более интегрирована, а значит, и более требовательна к устойчивости, но и вынуждена ориентироваться на удовлетворение гораздо более широкого уровня потребностей человечества.
Не менее убедительным подтверждением пирамидальной модели снижения ресурса пластичности служит сравнительная оценка продолжительности существования видов живых организмов в зависимости от их сложности. Как отмечают Жданов и его соавторы: «Плата за повышение организации – сокращение видовой продолжительности жизни, – которая, в свою очередь, увеличивает скорость смены фаун в эволюции» [79, с.14]. Основной причиной сокращения видовой продолжительности жизни, на наш взгляд, является именно снижение пластичности. Приведем следующую таблицу, взятую из вышеуказанной публикации (см. таблицу 2).
| Биологическая группа | Время жизни, млн лет | Источник оценки |
| Морские диатомовые | 25 | Стэнли, 1982, Эндрюс, 1976 |
| Бриофиты | 20 | Стэнли, 1982, Диксон, 1973 |
| Бентосные фораминиферы | 20 | Стенли, 1979 |
| Планктонные фораминиферы | 20 | Стенли, 1979, Эмилиани, 1982 |
| Жуки | >2 | Стенли, 1982, Куп, 1970 |
| Пресноводные рыбы | 3 | Стенли, 1979 |
| Змеи | >2 | Стенли, 1982 |
| Млекопитающие | >1 | Стенли, 1982 |
| Высшие растения флора плейстоцена виды запада Африки | >2 >20 | Леопольд, 1967 Стеббинс, 1982 |
Таблица 2. Оценка видовой продолжительности жизни разных биологических групп
Стоит только учитывать тот факт, что пирамидальная модель – это лишь более вероятная тенденция, а не непременный закон развития, она может нарушаться по многим причинам частного характера.
Человек, который расширил свои биологические адаптивные способности социальной адаптацией, тем самым должен повысить свою биологическую пластичность. Поскольку ресурс биологической адаптивности, в условиях, когда человек перестал адаптироваться биологически, не растрачивается, а, напротив, расширяется адаптивностью социальной. В действительности мы наблюдаем противоположную картину, когда примитивные племена, которые все еще существуют в условиях биологической «борьбы за существование», оказываются значительно биологически пластичнее людей цивилизованных сообществ. Вероятно, всему виной проблема накопления генетического груза, когда вредные мутации не только селективно не изымаются отбором, но напротив, их количество по причинам экологического характера возрастает. Поэтому можно предположить, что эволюционирующие системы, несмотря на ограниченность ресурса пластичности, нуждаются в его постепенной растрате, как костер нуждается в древесном топливе.
Таким образом, можно выявить закономерность, согласно которой усложнение ведет к закономерному снижению эволюционной пластичности, что не только снижает возможности радикальных преобразований, но и повышает потребность в них. Такой конфликт возможности и необходимости все время нарастает, пока указанная структура не придет к самоотрицанию. И чем совершеннее такая структура, тем скорее наступает такой предел.
О проблеме снижения пластичности науки и государственного устройства упоминает в своих работах Ортега-и-Гассет. В частности, он писал, «говоря о науке: плодотворность ее основ ведет к небывалому прогрессу, прогресс неумолимо ведет к небывало узкой специализации, а специализация – к удушению самой науки. Нечто подобное происходит и с государством» [24, с.107]. Конечно, речь шла не о пластичности, а о специализации, но специализация всегда ведет к снижению пределов изменчивости, а значит, и пластичности. И вообще, специализация, наряду с динамическим (возрастным) снижением пластичности, является важнейшим фактором истощения ресурса пластичности.
Ортега-и-Гассет ратует за то, что ныне толпа, масса, посредственность захлестнула все и вся. Избранное меньшинство постепенно растворяется в этой серой массе. При этом он подчеркивает, что избранные не те, кто кичливо ставит себя выше, но те, кто требует от себя больше. В результате масса забирает инициативу у тех, кого Тойнби назвал «творческим меньшинством», культура становится плохо управляемой, инертной и постепенно гибнет. Но зрелая культура – это не только увядание творческой элиты – это интеллектуальный рост низов, в обществе, где «кухарка» не только может, но и, в некоторой степени, управляет государством. В таком обществе мало не только философов, но и разнорабочих. Наблюдается классическая картина: общество, как и любая сложная диссипативная структура, с возрастом теряя свои крайние элементы, теряет пластичность. Особенно тревожно то, что аналогичная ситуация, как считает Ортега-и-Гассет, складывалась и в античном мире перед распадом их цивилизации. «Мы живем в эпоху уравнивания – уравниваются богатства, уравнивается культура, уравнивается слабый и сильный пол» [24, с.23].
Этнические системы также подчиняются всем основным закономерностям развития, свойственным и другим сложным эволюционирующим системам. И точно так же пластичность, как свойство этноса, характеризует спектр его адаптационных возможностей. Как отмечает Гумилев, «устранив из жизни экстремальные генотипы, этнос упрощается за счет снижения разнообразия, а это, в свою очередь, снижает резистентность этнического коллектива в целом. В спокойных условиях это малоощутимо, но при столкновениях с биологической средой, главным образом с соседями, отсутствие активных специализированных и жертвенных элементов ощущается крайне болезненно» [54, с.286].
В.Г. Буданов так же отмечает, что «уникальность любой традиции, создававшейся тысячелетия, та же, что и уникальность генотипа вида, создававшегося миллионы лет. Недавно мы поняли, что основной ресурс устойчивости Биосферы – это разнообразие видов, когда же мы поймем, что основной ресурс устойчивости Человечества к вырождению – это многообразие культур?» [85]. Еще великий Гумбольдт считал, что для того, чтобы человеческая природа расцветала и крепла, необходимо разнообразие ситуаций. Он утверждал, что внутри одного народа или в сообществе народов необходима разнообразная среда, самые различные обстоятельства и возможности. Тогда, если один выход закроется наглухо, останутся распахнутыми другие [24, с.198]. Снижение пластичности опасно для любой сложной структуры, но этносы всегда имеют возможность ее возобновления, не теряя собственного лица, пока сохраняется еще потенциал молодых и потому пластичных этнических культур. Этнос, в отличие от более конкретных социальных общностей, весьма аморфен даже на закате своего развития, а значит, пластичен. Этносы могут ассимилировать культуры, находящиеся на более ранних стадиях своего формирования, и таким образом теоретически бесконечно восполнять ресурс своего развития. Но все усложняется тем, что сознание этноса, как и личности, немыслимо без сформированной устойчивой структуры ценностей, идеологии, культурологической традиции. Мы можем бесконечное число раз трансформировать всю культурологическую составляющую, но должны сохранять основное ядро, иначе это чревато потерей самого себя. При сугубо утилитарном подходе не существует и самой проблемы, но чувство самосохранения этноса стремится сделать все, чтобы не потерять собственную память, не позволить заменить ее новым содержанием, пусть даже лучшим и более адекватным новым реалиям. В этом основная суть проблемы, дух, в том числе и этнический, только в потенциале неограниченно пластичен, в действительности же его трансформация ограничивается стремлением к сохранению своего уникального мироощущения, миропонимания и верований. И пусть это миропонимание уже старо и не соответствует новому положению вещей – это наше миропонимание, оно нам дорого, потому что оно и есть мы.
Близкое к изложенному понимание роли пластичности в этноэволюции мы находим у С. Лурье [86]. Согласно концепции Лурье, этнос для сохранения собственной устойчивости стремится постоянно разрешать все расширяющиеся противоречия между собственной картинной мира и реальностью. Полностью этот внутренний конфликт неразрешим, поскольку мир переменчив, а ядро этнической картины мира не меняется, поскольку для этноса изменить ядро – значит потерять себя. Постепенно этот конфликт нарастает, и традиционное сознание этноса начинает распадаться. Будучи не в силах изменить мир, этнос вынужден менять себя, и начинается период смуты, связанный с кризисом самоидентификации. Этнос формирует новый стержень этнической идентификации – трансфер. Ценностные ориентации победившей группы становятся ценностными ориентациями этноса – это может быть либо новый этнос, либо трансформированный и лишь формально считающийся тем же этносом. Возможен и пассивный путь разрешения конфликта, связанный со стремлением к сохранению этнического ядра и необходимостью адекватности культурологических установок этого ядра к динамике внешних реалий. Он заключается в игнорировании все накапливающихся несоответствий, а это возможно только при самоустранении, самоизоляции от внешнего мира. Например, Лурье приводит пример с турецкими крестьянами, которые все еще считают, что живут в великой империи, ориентируясь на прежние ценности, такие, как коллективизм, культ армии, идея национального превосходства.
По мнению Лурье, такой конфликт совсем не обязательно должен приводить к гибели этноса, чаще это лишь предвестник новой трансформации. Однако это не может длиться бесконечно, в любом случае, либо трансформация, в конечном счете, приведет к полной потере этнического ядра, а значит, потери этносом самого себя, либо продолжится дальнейшее нарастание такого конфликта. А в последнем случае неизбежно дальнейшее снижение пластичности этноса, приводящее к снижению его резистентности, что чревато постепенным вырождением в реликтовый этнос. Такой этнос не способен противостоять не только прочим, более открытым этносам, но и внешним стихиям, поэтому такие реликтовые этносы способны существовать только в изолированных областях, мало подверженных изменению. Это предельно закостенелые этносы, полностью потерявшие пластичность, и они могут существовать только в условиях полного штиля, и малейший ветерок способен разрушить эти последние очаги угасающей культуры.
Возникновение письменной культуры этноса можно считать фактором, резко сокращающим ресурс его пластичности. Все объясняется тем, что письменная речь не так пластична, как устная. Возникновение устных диалектов есть результат изменчивости субэтнических групп. Письменная речь значительно менее изменчива вследствие того, что там выше требования к языковой чистоте и чем менее пластична этническая, либо макроэтническая группа, тем тяжелее проходит реорганизация письменности. Устная речь благодаря своей пластичности может меняться плавно, градуалистически, тогда как грамматика письма может изменяться только сальтационным (революционным) путем. Но письменная культура – это не только письменность, это еще и ценнейшее для этноса культурное наследие. И если мифологическая, либо, например, песенная культура древности, передаваемая из уст в уста, невольно трансформируется, то письменное наследие практически мертво. Но оно и потому особо ценно, мы и хотим его сохранить в первозданном виде, но тогда письменная культура становится куда более устойчивой, а значит, и менее пластичной. И именно поэтому этносы – носители письменных культур менее изменчивы во времени, а значит, и менее пластичны.
Многим покажется слишком пессимистическим такой взгляд на этническую историю, человека пугает антикаузальный страх предопределенности, но эти выводы далеко не новы, многие авторы так или иначе подтверждают возможность угасания культуры в результате снижения пластичности. Например, Г.С.Гудожник и Г.С.Елисеева отмечают, в случае резких изменений климатических и прочих условий, слишком специализированные (а по нашей терминологии – наименее пластичные) общества, не сумевшие перестроить мышление и деятельность сообразно новым обстоятельствам, разрушаются [87]. Гумилев при анализе этногенеза также обращает внимание на проблему пластичности, когда пишет, что этносы при смене ландшафта «обязаны адаптироваться в новых условиях, а это означает коренную ломку собственной природы. Ясно, что на такую встряску способны лишь молодые, наиболее пластичные и лабильные, то есть неустойчивые» [54, с.279]. Все прочие обречены на исчезновение. Но этнос далеко не всегда исчезает посредством тотального истребления, чаще он либо ассимилируется другим народом, либо трансформируется в новую этническую форму – король умер, да здравствует король!
2.5. Принцип компенсации энтропийного возмущения
и его роль в этноэволюции
Энтропия – это, в сущности, стремление частиц к максимально равномерному распределению в пространстве. Связано это со статистическими законами, согласно которым наиболее вероятными состояниями являются состояния хаотические. Например, если трясти стакан, в котором два слоя песка разного цвета, очевидно, что с каждым очередным потряхиванием песчинки разного цвета будут распределяться все более равномерно. И вовсе не потому, что какая-то неведомая сила направляет их именно к такому распределению, а попросту потому, что такое состояние наиболее вероятно. Однако почему тогда в мире существуют структуры из сравнительно чистых веществ? Почему они попросту не перемешиваются с течением времени? Все дело в том, что второе начало термодинамики полностью действительно только для идеального газа. Реальные же природные структуры, под действием межмолекулярных и других взаимодействий, приходят в равновесное состояние при образовании структур, весьма далеких от хаотических. Как, например, при кристаллизации. И это проявляется на всех уровнях организации материи. Почему гены с течением времени не распределяются равномерно между всеми особями одного вида? Почему этносы не ассимилируются с течением времени? Может, и здесь действуют определенные силы, направленные на поддержание локальных очагов негэнтропийности (отрицательной энтропии)?
Все структуры в природе обладают в той или иной степени устойчивостью к разрушительному воздействию хаоса. Физические линейные системы обладают определенным порогом упругости. Если воздействие извне не превышает указанный порог, тогда система, обладающая упругостью, неизбежно возвращается в исходное состояние, действуя согласно третьему закону Ньютона: «действие равно противодействию»; в противном случае происходит необратимое разрушение. Теплоемкость физических тел служит буфером против разрушения в результате внешнего термического воздействия. Для термодинамических систем принцип компенсации энтропийного возмущения отражается принципом Ле Шателье-Брауна. Согласно данному принципу, устанавливается, что внешнее воздействие, выводящее систему из состояния термодинамического равновесия, вызывает в системе процесс, стремящийся ослабить эффект этого воздействия. Так, при нагревании равновесной системы в ней происходят изменения (например, химические реакции), идущие с поглощением теплоты, а при охлаждении – изменения, приводящие к выделению теплоты. Буферные химические растворы, являясь линейными системами, также обладают способностью сохранять определенные характеристики внутреннего химизма (например PH) при изменении градиентов концентраций, не превышающих определенный допустимый порог.
Таких примеров можно привести множество, они общеизвестны и самоочевидны. Но все усложняется при рассмотрении систем диссипативной природы, далеких от равновесия. Даже в неживой природе диссипативные структуры образуют настолько сложные паттерны, что для их сохранения таких элементарных свойств, как упругость и буферность, уже недостаточно. Диссипативные структуры приобретают собственные уникальные свойства, направленные на сохранение своей структуры, действующие на основе принципа отрицательной обратной связи, т.е. компенсации энтропийных возмущений. В каждом конкретном случае они уникальны, но все сводится к ассимиляции порядка извне и его последующей диссимиляции, с целью поддержания собственной структурной, негэнтропийной асимметрии с внешней средой.
Однако диссипативные системы неживой природы, так же как и линейные системы, консервативны в своих свойствах. Как бы условия ни менялись, они не идут дальше имеющихся адаптивных свойств. Иными словами, их механизм компенсации энтропийного возмущения жестко адаптирован к конкретной ситуации. Живые организмы в этом отношении пошли дальше по пути сохранения собственной неравновесности. Их механизмы сохранения и упрочения негэнтропийной асимметрии динамичны и могут меняться в соответствии с новыми реалиями. Самый простой и первичный механизм сохранения и поддержания структурной асимметрии живой материи – это поглощение органики гетеротрофами с последующим выделением продуктов жизнедеятельности. Затем появляются организмы, способные самостоятельно синтезировать органику (автотрофы). Организм задействует все новые и новые механизмы, обеспечивающие устойчивость к агрессивному воздействию хаоса. Например, закалка человеческого организма также эксплуатирует принцип противодействия энтропийному возмущению, стимулируя внутренние защитные резервы. Известно, что в некоторых случаях регулярный прием сверхмалых доз яда с постепенным увеличением дозы может привести к полной резистентности организма к нему. Этим же можно объяснить и тот факт, что опытные пчеловоды и змееловы часто бывают устойчивы к действию пчелиного и змеиного ядов соответственно. Внешние вызовы среды, конечно же, несут в себе вполне реальную угрозу, если они зашкаливают за пределы возможных резервов организма, но умеренные вызовы среды могут сделать организм более жизнестойким. Впрочем, имеется и определенная группа факторов, которые ни в коей мере не влияют на рост устойчивости, например, наличие в продуктах питания солей тяжелых металлов.
Все указанные защитные механизмы основаны на общих свойствах физиологии живых систем к поддержанию состояния квазиустойчивого равновесия. Но жизнь чрезвычайно динамична, адаптивная эволюция не стоит на месте, лавинообразно растет спектр адаптаций, жизнь расширяется и уже для ее дальнейшего роста необходимы новые эволюционные решения, и природа их находит.
Одним из следующих по хронологии адаптивных свойств живых организмов, основанных на принципе компенсации энтропийного возмущения, можно назвать упоминавшийся уже эффект защиты от популяционных мутаций. Напомним, что действие этого эффекта проявляется в отторжении из сообщества умеренно похожих, поскольку они несут реальную угрозу чистоте популяции. Смоделируем ситуацию, отражающую антиэнтропийный характер его действия. Допустим, в лисьей популяции появилась группа лис, приобретшая более темную окраску меха в результате генетической мутации. Но может ли такой признак в обычных условиях стать основным в популяции, даже если он более адаптивен? В обычных условиях, конечно, нет. Этот признак будет попросту ассимилирован. Для его распространения нужны специальные условия, способствующие сохранению чистоты данной генетической линии. Одним из таких условий может быть и эффект защиты от популяционных мутаций, под действием которого чернобурки будут изгоняться из популяции. В результате образуются две чистые линии окраса («принцип основателя»). Если на острове темный окрас более адаптивен, тогда он должен постепенно вытеснить рыжий окрас, поскольку выживаемость особей первой группы будет выше. Однако если не будет повышенной агрессивности между этими двумя цветовыми морфами, при отсутствии географической изоляции данные различия будут быстро ассимилированы, и тогда пока еще доминирующий рыжий окрас все равно победит. И селективное преимущество носителей генов темного окраса тут не поможет, поскольку в гетерозиготном состоянии он все равно не будет фенотипически проявляться. Поэтому данные условия должны способствовать росту частоты гена повышенной агрессивности к умеренно непохожим до тех пор, пока сохраняется опасность «рыжей экспансии». Таким образом, эффект защиты от популяционных мутаций выступает как этологическая форма симпатрической изоляции и может способствовать развитию новых, адаптивно более полезных признаков. Но вот уже чернобурки захватили черный остров, ген повышенной агрессивности к рыжим лисам в этом случае потеряет свою адаптивную значимость. Значит, пользы от него уже не будет, а вред очевиден, поскольку повышенная агрессия всегда связана с дополнительными энергозатратами и рисками. Можно, конечно, возразить, что вреда от такой агрессии не будет, поскольку рыжих лис на острове не останется, но агрессия никогда не бывает жестко направлена. Агрессивные к чужакам агрессивны, хоть и в меньшей степени, и ко всем вообще. Поэтому естественный отбор в таких условиях будет действовать уже в направлении снижения частоты гена повышенной агрессивности.
Очевидно, что механизмы регуляции уровня необходимой агрессивности гораздо более многогранны и не ограничиваются лишь популяционно-генетическими. В частности, саморегуляция агрессии может проходить посредством регуляции гормональной активности гипофиза. Агрессивность может снижаться либо возрастать также и рефлекторно, посредством снижения либо возрастания порога возбудимости в ответ на раздражитель, вызывающий агрессивное поведение. Таким образом, эффект защиты от популяционных мутаций, как частный случай более общего принципа компенсации энтропийного возмущения, также регулирует свою эффективность в зависимости от степени внешнего воздействия.
Можно предположить, что эффект защиты от популяционных мутаций играл значимую роль по крайней мере на заре формирования человеческого общества, пока человек еще не вырвался окончательно из оков биологического эволюционного детерминизма.
Изначально человек был, безусловно, не только безрасовым, но и неэтническим существом. Исходя из того, что безрасовостью характеризовался еще человек кроманьонского типа, можно предположить, что феномен этничности возник не ранее плейстоцена. По всей видимости, именно эффекту защиты от популяционных мутаций мы обязаны первичному формированию этнической и расовой структуры общества. Можно предложить следующую модель первичного этногенеза. Древние люди, как известно, жили небольшими родовыми общинами. Эти группы были слишком малы, чтобы можно было не опасаться импринтинга (вырождения вследствие гомозиготации генома) в случае продолжительной эндогамии. Поэтому мужчины часто искали пару за пределами общины. Поскольку тогда еще не было сформированных этнических сообществ, предпочтение мужчины отдавали девушкам, соответствующим определенному антропологическому типу. Иными словами, половой отбор в человеческих сообществах изначально ориентировался на исключительно биологических критериях. Постепенно, в результате полового отбора, внутри этих межобщинных групп формировался собственный уникальный антропологический тип внешности. Это еще были не этносы. Фактически, исходя из того, что эти группы отличались практически исключительно признаками биологического характера, эти группы являлись еще только биологическими популяциями, поскольку характеризовались определенным уникальным генофондом, устойчивым во времени. Устойчивых культурологических критериев идентичности они еще не имели. Однако, по всей видимости, морфологическая дифференциация шла значительно эффективнее, чем в биологических сообществах, поскольку половой отбор в значительной мере был осознанным, а значит, более целенаправленным. Например, в жарком климате половой отбор шел в направлении предпочтения более смуглого цвета кожи. Отсюда и такая биологическая полиморфность человека. Например, высочайшая полиморфность пород домашних животных и сортов культурных растений также связана с целенаправленным отбором. Ассимиляции, генетическому растворению этих групп препятствовал эффект защиты от популяционных мутаций, поскольку он стимулировал враждебность к чуждой внешности. Постепенно длительная эндогамия в этих межобщинных группах приводила к формированию также и собственного уникального социально-культурологического портрета. Развивались уникальные диалекты, способы хозяйствования и нормы общежития. Характерный тип внешности, если он был недостаточно ярко выражен, усиливался специфической раскраской, характерным одеянием и украшениями. Это делалось неосознанно, а иногда даже и осознанно именно с целью защиты от ассимиляции чуждыми межобщинными группами.
Поскольку социальные факторы постепенно вытесняли факторы биологические на второй план, все чаще браки заключались на основе социально-культурологической общности. Общность антропологическая все еще играла значимую, но уже вторичную роль. И только после формирования такой культурологической, относительно изолированной эндогамной группы общин можно считать, что родился новый этнос. Вероятно, именно эти первичные этнические группы и дали начало новым расам, которых изначально могло быть значительно больше, выжили только «лучшие». Феномен этничности не имел места у более древних представителей рода Homo, поскольку у них факторы социального характера не могли играть столь значимую роль, чтобы способствовать эндогамии именно по чертам культурологического свойства.
Все эти архаические очаги этничности являлись структурами чрезвычайно неустойчивыми во времени, поскольку были еще слишком малочисленны, да и уровень этнического самосознания в них еще не мог быть достаточно высок. Дело в том, что культурологический портрет этих этнических общностей был еще недостаточно сформирован, этнический патриотизм могли питать только лишь отдельные локальные победы в межплеменных войнах. Все в корне изменилось после формирования древнейших цивилизаций. Цивилизация, возвысившись колоссом над варварским миром, питала своих граждан нектаром тщеславия, патриотическим зарядом пассионарной энергии. Этническое самосознание в цивилизационном обществе неотделимо от патриотизма. Самосознание, в свою очередь, это не только сила самосозидающая, но и разрушительная для врагов. Вероятно, крупнейшим очагом этничности нового типа, затопившим, в конечном счете, избыточной пассионарной энергией практически всю Евразию, была Месопотамия (VI–II тыс. до н.э.). Этот этногенетический пучок сформировался в районе так называемого «плодородного полумесяца», раскинувшегося от Израиля до Персидского залива и включающего реки Тигр и Евфрат. И действительно, у большинства европеоидных этносов первичные корни происхождения берут начало именно из этого центра происхождения древнейших цивилизаций. В действительности, конечно же, европеоидная раса имела еще тысячи прочих очагов этничности, но они были слишком нестойки и потому были фактически затоплены индоевропейским шквалом пассионарности. Однако пассионарный импульс, чем он более силен, тем быстрее угасает. На смену ушедшему колоссу приходят новые. Рождение новых цивилизаций стимулировало еще более мощный виток этногенетической дифференциации. Исходя из принципа компенсации энтропийного возмущения, жесточайшая конкуренция между первыми цивилизациями за место под солнцем принуждала их распространять экспансию на максимально возможное число народов. Рост этнической активности принял нелинейный и необратимый характер.
После окончательного формирования человека современного типа, в результате снижения роли естественного отбора, снизилась и роль эффекта защиты от популяционных мутаций, как фактора биологического прогрессивного детерминизма и генетической устойчивости. Однако его значимость в процессах социальной дифференциации не только не снизилась, а даже возросла. Только здесь большую роль играют мутации не популяционно-генетические, а совсем другого рода. Конечно же, нельзя недооценивать роль факторов биологической наследственности, но без детерминирующей роли естественного отбора, наследственные изменения, в исторической перспективе, носят стихийный характер. Таким образом, следующим шагом в развитии принципа компенсации энтропийного возмущения является сугубо идеологический механизм защиты от крамолы, социально опасных идей. Это только потом эти идеи могут стать прогрессивными, и то далеко не всегда, но изначально они несут с собой хаос, угрозу устойчивости социальной структуры общества.
В настоящее время, в связи с общемировыми интеграционными процессами и гуманизацией общества, данный фактор меняет свои векторы с отторжения чуждой внешности на отторжение чуждой идеологии. Вероятно, рождение идеологии расовой непримиримости является результатом остаточного действия его биологического предшественника, однако в наше время ненависть к умеренно непохожим уже не имеет никакого эволюционного смысла, поскольку человек биологически находится в состоянии эволюционного стазиса. Если мы отторгаем чуждую внешность – это атавизм, если чуждую идеологию – это закономерное следствие социальной дифференциации. В результате социальная общность начинает превалировать над антропологической. Этнические евреи интегрируются с весьма антропологически далекими этносами под флагом иудаизма, а не с наиболее генеалогически близкими к ним арабами. Американцы англосаксонского происхождения обнаруживают гораздо большую идейную общность с афро-американцами, нежели, например, с афганцами. Значит, даже расовая общность может быть ниже социальной.
Но какие тогда закономерности определяют следующий шаг в развитии механизма компенсации энтропийного возмущения? Если представить этническое самосознание как частное проявление принципов компенсации энтропийного возмущения и защиты от популяционных мутаций, тогда данные тенденции можно будет связать с различными степенями внешнего воздействия, и в первую очередь воздействия, направленного на ассимиляцию этноса. Данный механизм весьма инертен и продолжает действовать какое-то время уже после того, как фактор, спровоцировавший его действие, потеряет свое значение. Поэтому этносы, настраиваясь должным образом на противодействие внешней ассимиляции, после того как внешнее воздействие вдруг ослабнет, теряют приобретенную пассионарную активность далеко не сразу. А за отсутствием внешних сдерживающих факторов повышенная пассионарная энергия, не находя должного противодействия, способствует экспоненциальному росту этноса.
Подобным же образом биологи объясняют резкие скачки численности некоторых популяций животных (перелетная саранча, лемминги и др.). Ведь живые организмы производят потомство столько, сколько необходимо для компенсации естественной смертности, т.е. значительно больше, чем необходимо для естественного воспроизводства популяции. Если же в результате благоприятных изменений внешних условий смертность сокращается, тогда в популяции начинается экспоненциальный рост численности, поскольку жизнь при отсутствии сдерживающих факторов всегда распространяется в геометрической прогрессии. В экологии такой резкий экспоненциальный всплеск численности именуется популяционным взрывом. Вернадский подсчитал, что если дать возможность всего одной паре слонов и их потомкам размножаться без ограничений, тогда уже через 740–750 лет они займут всю землю [88, с.287]. Но это лишь в идеале. В реальных условиях рост популяций сдерживается внутренними механизмами саморегуляции и внешними факторами. В первую очередь это проявляется в том, что возрастание плотности популяции сопровождается адекватным ростом внутривидовой конкуренции и нехваткой ресурсов жизнедеятельности. К тому же возрастание численности жертвы приводит к адекватному возрастанию численности хищника в связи с ростом пищевых ресурсов для него. По этой же причине возрастает сдерживающая роль паразитарных инфекций. И это лишь краткий перечень сдерживающих факторов роста популяций. В случае же спада численности, напротив, дальнейший ее рост стимулируется ослаблением роли внутривидовой конкуренции и других сдерживающий факторов, а также ростом ресурсов.
В этом и проявляются популяционные механизмы компенсации энтропийного возмущения. Популяционные механизмы саморегуляции в «человеческой популяции» должны быть схожи с биологическими, поскольку человек, при всей своей социальной природе, частично сохраняет биологические механизмы самоорганизации. Конечно, нельзя сводить весь комплекс адаптивных свойств этносов к биологическим механизмам саморегуляции. Как правило, здесь механизмы качественно другие, но аналогия сохраняется. Возрастание агрессивности внешних условий среды всегда способствует росту плодовитости организмов с целью компенсации потерь. Точно так же и внешние вызовы стимулируют возрастание пассионарной активности этносов. Как личности, так и этносы имеют избыточную адаптивность. И если этнос попадает в условия крайне неблагоприятные, тогда этнос мобилизует весь комплекс избыточной адаптивности, и он уже перестает быть избыточным. Если же и этих резервов не хватает, тогда этносу грозит вымирание, в результате межэтнической ассимиляции. Если условия, напротив, улучшаются, тогда эта мобилизованная избыточная адаптивность устремляется всей своей агрессивной мощью на соседей. Именно поэтому чрезвычайно опасны этнические конфликты.
Однако почему тогда различные этносы весьма различны по проявлениям, направленным на сохранение собственной самобытности? Одни стремятся столь энергично сохранить свою этническую самобытность, что всеми силами распространяют ее на другие народы. Другие находятся в состоянии стазиса, культуру не экспансируют, но сохраняют ее ревностно. И наконец, реликтовые этносы уже настолько пассивны, что способны сохраниться только в изолированных областях. Можно предположить, что этносы различаются не только по уровню пассионарной активности, но и по выраженности различных аспектов самосознания. Например, осетин-дигорец может осознавать себя одновременно дигорцем, осетином, кавказским горцем, россиянином, европейцем, представителем европеоидной расы и всего человечества. Есть еще и другие уровни самосознания, основанные на материальном достатке, социальном положении, профессии и т.д., но в данном случае важен именно этнический аспект. Иногда у человека этническое самосознание бывает ниже макроэтнического, т.е. национального (государственного) самосознания. В тех этносах, в которых число таких людей велико, особенно высока вероятность генетической ассимиляции и, что еще опасней, ассимиляции культурологической. В некоторых же этносах уровень этнического самосознания настолько высок, что этого с избытком хватает не только для поддержания этнической целостности, но и на внешнюю экспансию, и расширение собственного этноса. Таким образом, в действительности именно в этом и проявляется пассионарная энергия этноса.
Уровень этнического самосознания может снижаться на границах компактного проживания различных этнических образований, за счет частичной ассимиляции, в результате экзогамии (смешанных браков) и, что особенно важно, за счет этнокультурных заимствований у соседей. Но в тех случаях, когда уровень этнического самосознания высок, как и высок уровень пассионарной активности, этническое самосознание на межэтнических границах может, напротив, еще больше возрасти, как результат противодействия такой ассимиляции. Как, например это происходит с русской диаспорой в странах Балтии или с казаками на Кавказе и в Забайкалье. Поэтому неудивительно, что казалась бы одна и та же ситуация, приводящая к возрастанию миграционной активности различных этнических групп, может приводить как к возрастанию толерантности этносов, так и к возрастанию этнических конфликтов. Таким образом, если низкий уровень этнического самосознания под действием ассимиляционных процессов приводит к еще большему его снижению, а высокий, напротив, к его повышению, можно заключить, что и здесь проявляется нелинейная зависимость, основанная на отрицательной либо положительной обратной связи.
На чем основана регуляция механизма сохранения этнической самобытности? Может, здесь надо искать аналогию с сугубо биологическим механизмом защиты от популяционных мутаций? По-видимому, да, поскольку, вероятно, непосредственным развитием механизма защиты от популяционных мутаций и его филетическим преемником является механизм сохранения этнической самобытности. Данный механизм, направленный, прежде всего, против внешней генетической ассимиляции этноса, посредством экзогамии и культурологической экспансии соседей, является не только средством сохранения существующих этносов, но и формирования новых. По всей видимости, такое этническое свойство, как пассионарность, описанная Гумилевым, и является следствием действия данного механизма, способствующего сохранению этнической асимметрии.
Что позволяет некоторым этносам развиваться быстрее других? Может быть, большая адаптированность? Если биологическая адаптированность, то она не играет определяющей роли, социально-биологические факторы вытесняют на второй план факторы антропологические. Поэтому неудивительно, например, что чернокожим в «туманном Альбионе» живется гораздо лучше, чем африканским. Тогда, может быть, определенные преимущества получают некоторые этносы благодаря определенным культурологическим свойствам адаптации к социальной среде? Частично это верно, но дело в том, что социальная среда чрезвычайно динамична, а этнокультурные свойства консервативны. Поэтому часто нравы, обычаи и конфессиональное право идут вразрез с новыми реалиями. В таких случаях социальная адаптация этносов и их прагматические свойства уходят на второй план. Стремление к сохранению культурной самобытности превращается в самоцель, ибо в этом прежде всего и состоит «душа» этноса.
Следовательно, для этноса гораздо важнее способность к сохранению и даже расширению своего этнокультурного облика, даже если это чревато утратой определенных прагматических преимуществ. Поэтому побеждают прежде всего этносы, обладающие большим потенциалом пассионарной активности, направленной на сохранение и внешнюю экспансию собственного этнокультурного уклада, даже если их собственная культура менее адекватна современным реалиям. Если же этнос обладает недостаточным потенциалом пассионарности, тогда он гибнет, либо перерастает в реликтовый этнос (последнее, впрочем, возможно только в случае практически полного отсутствия ассимилирующего воздействия извне).
Если даже у вновь образуемого этноса потенциал пассионарности окажется достаточно высоким, то и тогда успех его становления будет зависеть от того, насколько этот потенциал сможет проявиться. Гумилев считает, что пассионарность является наследственно обусловленным признаком [54], и это, вероятно, верно, но лишь отчасти. Основная часть этнодифференцирующих признаков имеет ненаследственный, социальный характер, такие признаки формируются и развиваются непосредственно в этнической среде. Но имеются и некоторые генетически обусловленные признаки, которые могут развиться с большей вероятностью в родной этнической среде, нежели в любой другой. Таким образом, можно говорить не о конкретных наследственных, генетически обусловленных признаках, а лишь о наследственных предрасположенностях. И чем этнически гомогеннее область, в которой развивается личность, и чем выше в нем уровень этнического самосознания, тем ярче проявляются эти предрасположенности. Данный вывод основан на одном из важнейших принципов биологии, на статистическом характере наследования и его зависимости от окружающей среды. В социальных системах эта зависимость еще выше, поскольку генетические предрасположенности могут практически потеряться под мощным прессом социальных факторов, одним из которых и является механизм самосохранения этнической самобытности.
Если предположить, что пассионарность как раз и является тем свойством, на котором основана регуляция механизма сохранения этнической самобытности, тогда рост пассионарной активности можно считать ответом на внешние и внутренние вызовы, так или иначе несущие угрозу для этноса. Если внешний вызов будет слишком сильным, этносу грозит гибель, либо резкое его сокращение; если слишком слабым, тогда не будет стимула для роста пассионарности и этнического самосознания. И только достаточно сильные вызовы, но не превышающие предельно допустимый порог, способны стимулировать этнический рост. Причем вызовы максимально допустимой силы особенно позитивны именно на начальных фазах этноэволюции, поскольку стимулируют развитие этнического самосознания и пассионарной активности, направленной на сохранение этноса. Затем, если внешнее давление не ослабнет, этнос может погибнуть, поскольку ни один этнос не способен сдерживать длительные мощные внешние вызовы. Если же условия становятся более благоприятными, возросшая пассионарная активность, обладающая определенной инерционностью, все равно сразу не снизится. И тут эта избыточная этническая активность, не находя достойного сопротивления, начинает заливать подобно цунами все соседние этносы, распространяясь до тех пор, пока избыточная адаптивность не уравновесится агрессивностью среды и не перестанет быть избыточной (внешние причины надлома), или когда пассионарность, потеряв внешние стимулы, не начнет резко снижаться (внутренние причины надлома). Этнос ведет себя в таких случаях подобно глубоководной рыбе, поднятой на поверхность, которая начинает раздуваться, благодаря тому, что ее внутреннее давление (аналог пассионарности) значительно превышает давление внешней среды (аналог вызовов со стороны враждебных этносов).
По уровню этнического самосознания этнос никогда не бывает полностью гомогенен как во времени, так и в пространстве. В критические для этноса периоды истории самосознание резко возрастает, в спокойные эпохи, напротив, снижается. Но во все времена уровень этнического самосознания варьирует от полного неприятия представителей других народов (радикальный этноцентризм), до полного безразличия к своей этнической принадлежности (космополитизм). Наиболее этнически активная и патриотичная часть этноса формирует «этническое ядро» или, как мы его называем, «этноцентр», в котором наиболее слаба интеграционная (с другими культурами) составляющая и наиболее сильна структуросохраняющая роль. Оно служит целям сохранения и укрепления этнической целостности. Самая же космополитичная, по своим убеждениям, часть этноса формирует так называемый «космополитный пояс», который служит делу интеграции этноса с остальным миром. В критические периоды истории «этноцентр» предохраняет этнос от полной ассимиляции, во времена же стабильности «этноцентр», сдерживая интеграционные процессы, оказывает скорее отрицательную роль. В целом благодаря тонкому балансу между «космополитным поясом» и «этноцентром» сохраняется диалектическое равновесие между полной этноизоляцией и полной этноассимиляцией. Длительное отсутствие внешних «вызовов» приводит к редукции этнического ядра, что чревато потерей этнической устойчивости, в случае же резкого обострения межэтнических конфликтов, напротив, редуцируется «космополитный пояс», что чревато самоизоляцией этноса. В этом случае активизируется этноцентр, и на его почве вырастают грозные ростки радикального национализма и ксенофобии.
Конечно же, национализм в крайних, радикальных своих формах, является скорее побочным продуктом процессов самосохранения, когда нечистые на руку политические лидеры, играя на национальных чувствах людей, преследуют собственные политические цели. Почему-то объявлять себя лучше других считается для человека верхом нескромности, а объявлять свой народ лучшим часто отождествляется с патриотизмом. Это в корне неправильно, в конечном счете, этноцентризм для этноса является полным аналогом эгоцентризма для отдельного человека.
Данные выводы частично базируются на теории пассионарности Гумилева и частично на концепции «вызова–ответа» А.Дж. Тойнби. Тойнби, в частности, писал: «Отсутствие вызовов означает отсутствие стимулов к росту и развитию. Традиционное мнение, согласно которому благоприятные климатические условия, безусловно, способствуют общественному развитию, оказывается неверным. Наоборот, исторические примеры показывают, что слишком хорошие условия, как правило, поощряют возврат к природе, прекращение роста» [66, с.126]. В подтверждение концепции Тойнби можно проиллюстрировать одну весьма любопытную закономерность. Цивилизации первоначально возникали в относительно благоприятных климатических условиях, когда их зависимость от природы была еще настолько высока, что даже и в таких условиях природные вызовы были достаточны для стимулирования развития. Затем, по мере развития цивилизаций, цивилизационные центры все время смещались на север, таким образом снижение зависимости от природы компенсировалось все более суровыми ее условиями. После XIX века человечество уже настолько оторвалось от природной зависимости, что вообще природные факторы потеряли свою былую организующую, равно как и дезорганизующую роль, и цивилизации начали развиваться в самых разнообразных климатических условиях.
Вместе с тем Гумилев не принял концепцию «вызова–ответа», приписывая Тойнби географический детерминизм. Возражение Гумилева сводятся к тому, что одни и те же «вызовы» могут как стимулировать развитие этносов, так и привести к их упадку, причем это относится как к «вызовам» природы, так и к «вызовам» других этносов [54, с.180–183]. Возражения Гумилева в чем-то верны, а с чем-то можно не согласиться. Во-первых, нельзя понимать тезис о развитии культур как «ответ» на «вызовы» слишком буквально. Только «вызовы» умеренной силы способны стимулировать «ответ», слишком сильные «вызовы» разрушительны по сути, слабые же недостаточны для стимуляции развития. Об этом писал Тойнби: «Наиболее стимулирующее воздействие оказывает вызов средней силы» [66, c.179]. Во-вторых, Тойнби указывает, что маскирующее действие на развитие в ответ на «вызовы» может оказывать «закон компенсаций»: «Суровость вызова физической среды компенсируется несколькими путями. Прежде всего, местность с суровыми природными условиями малопривлекательна для человека и зачастую плохо доступна, что само по себе гарантирует отсутствие соперников» [66, c.179]. И точно так же отсутствие стимулов роста в благоприятной местности компенсируется более частыми «вызовами» соперников. В-третьих, что касается географического детерминизма Тойнби, Гумилев частично прав. Не всякий этнос способен найти достойный «ответ» на внешние и даже внутренние «вызовы». Для этого требуется достаточная военно-политическая мощь государства, сравнимая с таковой агрессора, и, конечно же, воля, т.е. пассионарный настрой. Но, с другой стороны, разве это географический детерминизм, когда наряду с «вызовами» окружающей географической среды большую роль (иногда даже большую) играют социальные «вызовы», т.е. «вызовы» агрессоров или внутренние «вызовы» (народные смуты и государственные перевороты). Гумилев почему-то эти факторы также причисляет в разряд географических, что вряд ли верно.
Исходя из концепции Тойнби, следствием отсталости культур может быть как слишком благоприятный климат, так и слишком суровый. И действительно, большое число культур, которые мы считаем «отсталыми» [38], находится как на территориях наиболее благоприятной тропической зоны, так и в суровых условиях Крайнего Севера. То же отмечает и Ортега-и-Гассет: «Можно сформулировать закон, подтвержденный палеонтологией и биогеографией: человеческая жизнь расцветала лишь тогда, когда ее растущие возможности уравновешивались теми трудностями, что она испытывала. Это справедливо и для духовного, и для физического существования. Касательно последнего напомню, что человек развивался в тех областях Земли, где жаркое время года уравновешивалось нестерпимо холодным. В тропиках первобытная жизнь вырождается, и, наоборот, ее низшие формы, как, например, пигмеи, вытеснены в тропики племенами, возникшими позже и на более высокой эволюционной ступени» [24, с.91-92]. Средиземноморская тропическая зона явно выпадает из данной закономерности, но здесь свою организующую роль сыграли постоянные социальные «вызовы», в этом весьма густонаселенном регионе.
Конечно же, очень многое зависит от потенциала этноса, поэтому одни и те же вызовы могут как уничтожить один этнос, так и стимулировать к развитию другой. Если этнос сталкивается с неожиданно усиливающейся волной социальных «вызовов», после длительного периода затишья, тогда он может и не успеть мобилизовать защитный потенциал, т.е. восстановить требуемую пассионарную активность. Если же этнос реликтовый, тогда ни при каких условиях он не сможет ответить на серьезные социальные «вызовы», сохранив основу собственной этнической культуры, т.е. сохранившись, как народ.
С. Лурье в одной из своих работ приводит интересный пример с самоидентификацией армянской диаспоры в Ленинграде во время Карабахского конфликта [89]. До этого, трагического для армянского народа, впрочем, как и для азербайджанского, периода члены армянской общины в Петербурге в целом считали себя фактически русскими и не отделяли себя от русской культуры. После конфликта их национальное самосознание резко возросло. Большинство из них после окончания конфликта вновь ушло «в русские», и более того, даже многие из тех армян, которые недавно мигрировали в Россию, так же охотно принимают русскую идентичность. Как считает Лурье, в последние годы вопрос идентификации был насильственно навязан внешним окружением, поскольку армяне были отнесены к «лицам кавказской национальности» со всеми вытекающими последствиями. От себя лишь добавим, что армянский этнос весьма антропологически и культурологически полиморфен. Русскую идентичность с легкостью принимают только те армяне, которые имеют более глубокие чувственно-идеациональные корни (см. ниже), т.е. находятся на более близкой к русскому этносу фазе развития, а именно такой антропологический тип армян, главным образом и живет в Санкт-Петербурге. Лурье задается вопросом: «Как они так молниеносно выбрали наиболее адекватную линию поведения, связанную с сегодняшними общеэтническими интересами? И наконец, почему, когда их роль была сыграна, не стали дальше «эксплуатировать» свою этничность, а просто перестали интересоваться жизнью общины?». Нетрудно убедиться, что, взяв за основу исследования динамики уровня этнического самосознания и межэтнических конфликтов «принцип компенсации энтропийного возмущения», найти ответы на все эти вопросы будет несложно. Не в этом ли сокрыты истинные причины такой, казалось бы, иррациональной межэтнической враждебности? Н.Я. Данилевский писал, что враждебность эта «лежит в неизведанных глубинах тех племенных симпатий и антипатий, которые составляют как бы исторический инстинкт народов, ведущий их (помимо, хотя и не против их воли и сознания) к неведомой для них цели» [90, с.52].
Таким образом, этносы, как и биологические виды, развиваются, совершенствуя внутренние механизмы поддержания неравновесности, с целью компенсации разрушительного влияния хаоса. Если тщательно проанализировать роль хаоса в прогрессивном развитии общества, тогда, вероятно, этим можно объяснить причину цикличности развития цивилизаций, этносов или же финансовых либо аристократических династий. Цивилизация, отвечая на «вызов», невольно ускоряет свое развитие, если вызов не настолько силен, чтобы разрушить ее. Формируя достойный «ответ», она фактически нейтрализует влияние хаоса, стимул пропадает, и она деградирует. Деградация приводит к распаду, в результате роль хаоса вторично возрастает, и на руинах старого колосса вырастает новый. Как это случилось с Римской империей, которую погубило собственное могущество, породившей две могущественные империи – Франкскую и Византийскую.
В чем же причина наметившейся в последние время опасной тенденции обострения межэтнических конфликтов? Казалось бы развитие процессов глобализации (развитие массовых коммуникаций, создающих эффект одновременности и сопричастности событий, участившиеся миграции людей, развитие транснациональных экономических и политических институтов, развитие единой массовой культуры) должно вроде, напротив, способствовать межэтнической интеграции. Однако именно поэтому имеет место, наряду с интегративными процессами, также и прямо противоположная тенденция. Включаются естественные механизмы отрицательной обратной связи, механизмы сохранения постоянства и устойчивости. Ведь, по сути, национальные и конфессиональные движения есть следствия действия механизма, являющегося естественным продолжением эффекта защиты от популяционных мутаций. Чем выше опасность ассимиляции, тем сильнее его действие. Поэтому здесь следует особенно тщательно следить за сохранением тонкого баланса между процессами интеграции и дифференциации. Насильственная, не обусловленная естественно-историческими предпосылками интеграция способна вызвать бурю центробежных сил.
Псевдорелигиозность также является в некоторых случаях своеобразным защитным механизмом от разрушительного, ассимилирующего воздействия на этнос извне. Истинная религиозность отражает сугубо внутреннее состояние человеческой души и, являясь олицетворением морального закона внутри нас согласно известному кантовскому определению, весьма слабо зависит от внешних причин. Но есть и другая форма проявления религиозности, религиозности напыщенной, показной, часто даже агрессивной к другим концессиям. Вот эта псевдорелигиозность, являясь олицетворением не трансцендентального, а самого что ни на есть материального мира, является также своеобразной формой компенсации энтропийного возмущения извне. Недостаток внутреннего морального закона часто компенсируется скрупулезнейшим, иногда даже сверх необходимых требований церкви, исполнением обрядов. Такие люди со своей напускной, выставляемой на показ, религиозностью являются весьма благоприятной средой для религиозного фундаментализма. Фундаментализм, в свою очередь, также является своеобразной компенсацией энтропийного возмущения. В случае внешней агрессии со стороны другого этноса, являющегося к тому же представителем иной конфессии, резко возрастает этническая и религиозная непримиримость как защитная реакция этноса, и создаются все условия для расцвета религиозного фундаментализма.
Этнос в некотором смысле – самостоятельное целостное мыслящее существо, и это объективная реальность, а не образная метафора. Ему также свойственно чувство самосохранения. И подобно тому, как человеческие клетки-фагоциты борются с пришельцами, причем не всегда нежеланными, подобным же образом и отдельные люди, восставая против инородцев, являются простыми пешками в защитных комбинациях собственного этноса, сами того не осознавая. Такое отторжение чуждой культуры когда-то было жизненно необходимо для сохранения собственной целостности. А ныне, в связи с интеграцией народов, когда требуется все большая межэтническая толерантность, такие формы отчуждения являются не столько защитной, сколько «аллергической» реакцией этноса. Нация всегда собирательна, полиэтнична, это комплекс отшлифованных веками межэтнических связей, национализм же ведет к разрушению этих устоявшихся связей. «Национализм – это шараханье в сторону, противоположную национальному началу. Оно собирательно, а национализм исключителен и лишь отторгает. Однако в пору упрочения нации он в почете и играет положительную роль» [24, c.175]. Поэтому этническая агрессивность может быть полезна только молодым этносам с патриархальной культурой, в которой нет еще внутренних устоявшихся связей. Совсем иная картина в нациях зрелых, здесь опасность кроется не только в потере устоявшихся связей, велика также опасность захлебнуться в собственных геронтологических соках. Ведь стареющему этносу просто необходим приток свежих сил, как стволовые клетки больному раком. Стареющий этнос малопластичен и слишком однороден, а для эффективного функционирования разнородность просто жизненно необходима.
Постепенно этносы интегрируются между собой на государственном и межгосударственном уровнях. Экономические и культурные связи, а также межэтническая и межгосударственная специализация производства делают их все более взаимозависимыми. Иными словами, снижается этническая пластичность. В таких условиях слишком резкая динамика межэтнических конфликтов может нарушить шаткое равновесие между уровнем пассионарной активности этносов и глубиной внешних вызовов. Такое нерациональное стимулирование роста этнического самосознания и пассионарной активности может привести к тому, что они начнут перехлестывать через край. И образовавшаяся волна пассионарной активности способна разрушить веками установившиеся интеграционные межэтнические связи. Поэтому в наше время радикальные национальные движения несут в себе реальную угрозу, а резкие всплески национального и конфессионального радикализма способны вызвать прежде всего необдуманные военные акции. За примерами далеко идти не надо.
2.6. Уровни этнической классификации
Сразу следует оговориться, что все описываемые ниже системы имеют статистический характер. Наиболее статистически достоверен этнический уровень, если же мы спускаемся ниже, до субэтносов, консорций и конвиксий, или поднимаемся выше, вплоть до уровня суперэтноса, то границы становятся все более размытыми и неопределенными. Все дело в том, что субэтносы и другие микроэтнические элементы этносистем – это, образно говоря, кандидаты в будущий этнос. Если не будет соблюден целый ряд необходимых условий, кандидатура может не быть «утверждена», как это произошло, например, с казачеством, так и оставшимся членом великой семьи русского этноса. Практически то же можно сказать и о суперэтносах. Здесь суперэтнос выступает как кандидатура в макроэтнос. Дело в том, что уровень внутренней интеграции в макроэтносах значительно выше, чем в суперэтносах. Макроэтносом можно считать тот же этнос, имеющий полифилетическое происхождение, но еще не прошедший порог необратимой ассимиляции входящих в него этнических образований. Например, германский народ когда-то был макроэтническим объединением самостоятельных этносов, затем в результате интеграции образовался полифилетический этнос. То же можно сказать и о русском этносе, и об арабском, да, впрочем, практически любой значительный по численности и занимаемой территории этнос имеет полифилетическое происхождение. Венгры и румыны тоже, кстати сказать, была кандидатами в интеграцию с германским этносом, история распорядилась по-другому. Теперь даже австрийцы уже представляют самостоятельный этнос. Исходя из вышесказанного, любая классификация этносов условна и будет уточняться не только оппонентами, но и исторической судьбой.
Понятие «этнос» перекликается с понятием «нация». Иногда эти понятия трактуются как тождественные. Все же более корректно понимать под нацией этническую, либо макроэтническую общность людей, объединенную единой государственностью и внутренне осознающих это единство, т.е. обладающих сложившимся государственным самосознанием. Часто повторяют ошибку социалистического периода этнологических исследований, отождествляя нацию с этнической структурой на уровне административно-территориального образования. Это не верно, поскольку деление этносов на нации и народности является, по выражению В. А. Тишкова, доктриниальным этнонационализмом. Для того чтобы перерасти в нацию, этнос либо группа этносов должны коэволюционно врасти в собственную государственность, причем настолько, когда этносы становятся неотделимы от собственного государства. Поэтому либо все этносы, находящиеся на территории государства, если их осознание общности становится сравнимым с этническим, являются единой нацией, либо все они относительно самостоятельные этносы.
Если говорить о суперэтносах, как о самых крупных этнических структурах, то здесь можно выделить только один объективно существующий суперэтнос – это европейский. Возможно, также чернокожее население Земли можно также считать своеобразным суперэтносом, которых невольно сплотил вызов расизма. Миграционная динамика настолько сложна и бессистемна, а межэтнические взаимосвязи настолько призрачны, что сложно выделять какие-либо надэтнические системы, стоящие над уровнем государственных. Дело в том, что для того, что бы можно было выделить какую-либо межгосударственную надэтническую общность, необходимо доказать, что уровень генного, а главное – культурного обмена между ними ощутимо выше, чем между другими макроэтническими системами. А для этого требуется подлинное чувство суперэтнического самосознания. Возможно, оно есть у чернокожего населения, возможно, есть у европейцев, (впрочем, понятие «западный человек» объединяет еще и американцев, канадцев и даже австралийцев), но большинство других выделяемых многими авторами суперэтнических общностей едва ли характеризуются устойчивым уникальным суперэтническим самосознанием. Например, в настоящее время выделение христианского и исламского суперэтносов неправомочно. Приведем следующие доводы:
1. Все известные крупные полифилетические и полиэтнические макроэтносы (российский, американский, западноевропейский и т.д.) включают в себя представителей как исламской и христианской, так и некоторых других религиозных конфессий.
2. Во всех крупных международных конфликтах по обе стороны баррикад всегда были представители обеих конфессий.
3. Если в раннее Средневековье религия имела на этническом уровне важную интегрирующую роль (например, образование Арабского халифата и Франкской империи) и во времена крестовых походов действительно фактически существовали две суперцивилизации – исламская и христианская, то ныне их роль значительно ослабла и нельзя назвать ни один макроэтнос, образованный по религиозному принципу.
4. Многие этносы при делении по конфессиональному принципу будут разделены. Кавказ, в частности, превратится в пеструю помесь двух цивилизаций с примесью буддизма, иудаизма и язычества, где добрая половина народов поликонфессиональна.
5. Конфессиональное самосознание в настоящее время уступает этническому и макроэтническому, и хоть межконфессиональные браки случаются не реже межэтнических браков, смена вероисповедания происходит значительно чаще, чем смена этнической самоидентификации. Мусульманин может стать христианином, но араб едва ли станет итальянцем. Очень часто именно этническое самосознание служит проводником самосознания конфессионального, например, русский осознает свою принадлежность к русской православной церкви именно потому, что он русский. Значительно реже конфессиональность определяет этнический облик.
6. Если говорить об идейной общности, то и тогда мы вряд ли найдем в исламском и христианском мирах столько внутреннего единства, сколько было бы достаточно для их цивилизационного противопоставления. Было бы гораздо логичнее делить население не по вероисповеданию, а на истинно верующих и номинально верующих, и тогда уж наверняка между истинно верующими всех конфессий будет гораздо больше общего.
2.7. Этнологический портрет Кавказа
Особенно наглядно указанные закономерности этноэволюции можно проиллюстрировать на примере Кавказского региона, арене жесточайшей борьбы народов за существование, борьбы, полной трагизма, которая не затухает и поныне.
Можно ли говорить о Кавказе, как о некоей этносоциальной либо даже цивилизационной общности? Здесь мнения весьма неоднозначны, вплоть до таких полярных, как приписывание Кавказу роли уникальной самостоятельной цивилизации [91, с.28–30] либо не более как роли контактной зоны между цивилизациями [92, с.30–34].
Кавказская этносоциальная общность являет собой результат коэволюционного взаимодействия весьма различных, в некоторые периоды истории даже антагонистических, систем (казаки-горцы, осетины-ингуши и т.д.). И если бы в различные периоды истории различные этнонациональные общности Кавказа периодически не принадлежали к самым различным надсистемам – Крымское ханство, Персия, Османская империя, Русь и т.д., тогда в результате продолжительного коэволюционного взаимодействия кавказские этносы сформировали бы гораздо более жесткую структуру. В результате мы имеем довольно слабо оформленную общность. Однако совсем игнорировать сложившиеся внутрисистемные связи здесь тоже нельзя. Более того, в последнее время явно складывается тенденция к движению в сторону все более интенсивного кооперативного взаимодействия на региональном уровне. Следует, таким образом, оценить глубину происходящих процессов и дать оценку складывающейся общности.
Итак, выделим некоторые критерии, характеризующие степень интеграционной общности субъектов социальной эволюции (республики, этнические группы, общественно-политические, научные и культурные институты) на Кавказе (см. таблицу 3).
| Критерии межэтнической общности народов Кавказа | Соответствие указанному критерию | |
| 1 | Язык | Нет. По данному критерию можно говорить об общности лишь на федеральном уровне и уров-не стран ближнего зарубежья (русский язык) |
| 2 | Социокультурные связи | Сопоставимы или даже ниже, чем таковые с федеральным центром |
| 3 | Социально-политическая обособленность | Нет. Южный Федеральный округ играет скорее роль сглаживания этой обособленности от фе-дерального центра |
| 4 | Экономическая обособленность | Нет. Экономические связи между республиками слабее, чем с федеральным центром |
| 5 | Религия, обычаи, быт | Общности нет или она выражена весьма слабо |
| 6 | Самосознание | Значительно ниже, чем на этническом и феде-ральномуровне |
| 7 | Географический фактор | Кавказские народы принято отождествлять с горскими, однако большая часть даже авто-хтонных кавказских народностей всегда жила на равнине |
| 8 | Биологическая (генетическая) обособленность | Нет |
| 9 | Внешние вызовы | Данный критерий вероятно единственный од-нозначно интеграционного свойства |
Таблица 3. Некоторые критерии интеграционной общности
1. Язык. Народы Северного Кавказа представляют весьма пеструю смесь этимологически далеких языков (кавказские, славянские, тюркские, иранские и др.). В данном случае языком безусловно интеграционного свойства можно считать русский. И так как собственного системообразующего языка межнационального общения на Кавказе нет, то здесь можно говорить лишь о системной общности на уровне России и стран ближнего зарубежья.
2. Социокультурные связи. Здесь нельзя дать однозначной оценки. С одной стороны, они достаточно обширны. Например, в Ростове и некоторых других республиканских и краевых центрах сосредоточены многие культурные и научные институты регионального уровня. С другой – многие региональные субъекты чаще предпочитают иметь дело непосредственно с культурными и научными центрами федерального уровня. Здесь гораздо больше связей между этнически близкими группами (Адыгская и Тюркская академии, казачьи социокультурные институты и т.д.), чем между административно-политическими субъектами региона.
3. Социально-политическая обособленность. Северный Кавказ и Ростовская область представляют Южный Федеральный округ. Казалось бы здесь общность по данному критерию налицо. Но в чем состоит функциональная значимость данной политической структуры? Она выражается вовсе не в самоуправлении, а в обеспечении более эффективного взаимодействия с федеральным центром. Поэтому здесь можно говорить не об усилении обособленности, а, напротив, о ее сглаживании.
4. Экономическая обособленность. Имеют место многочисленные торговые и производственные объединения северокавказского уровня, к тому же товарооборот между внутренними субъектами несколько выше, что связанно в первую очередь с транспортными расходами и исторически сложившимися экономическими связями. Однако и здесь уровень интеграции достаточно низок, в частности, многие организации предпочитают взаимодействовать с экономически более развитыми регионами. Поэтому часто товарообмен, например, с Москвой оказывается значительно выгодней, чем с соседней республикой.
5. Религия, обычаи, быт. Конечно же, многовековое совместное проживание северокавказских народов не могло не сказаться на формировании некоторых общих элементов межличностных взаимоотношений и быта (черкеска, кавказская кухня, традиционное кавказское гостеприимство, уважение к старшим, мужественность, развитое коневодство и характерные народные промыслы, мифология). Вместе с тем весьма пестрая по своему составу религиозная община (ислам, православие, буддизм, иудаизм и язычество) и этническая разобщенность не позволяют и по этому критерию говорить о достаточно глубокой общности.
6. Самосознание. Данный критерий мы считаем определяющим. После того как представители формирующейся социальной системы начинают осознавать себя в качестве самостоятельного субъекта, происходит бифуркационный скачок в темпах самоорганизации. Как мы представляемся за пределами Кавказского региона – «я кавказец», «я черкес» или «я россиянин»? Думается, все же, что первый вариант ответа мы употребляем практически только тогда, когда хотим уточнить географическое местоположение своего места жительства. Житель Кавказа осознает себя, прежде всего, не кавказцем, а представителем своего этноса или же россиянином.
7. Географическая изоляция. Можно только добавить, что постоянные миграции, связанные, как правило, с внешней и внутренней агрессивной экспансией, практически сводят на нет и этот интеграционный фактор.
8. Биологическая (генетическая) обособленность. Следует сразу подчеркнуть, что биологические факторы в социальных системах имеют вторичное значение, однако совсем их игнорировать тоже нельзя. В биологическом смысле можно говорить об этнической обособленности тогда, когда генный обмен внутри данной социальной группы будет значительно выше, чем за ее пределами. Достаточно очевидно, что здесь ни о какой антропологической обособленности на уровне всего региона говорить не приходится. Данный фактор в значительной степени зависит от уровня самосознания. Наиболее вероятны браки между представителями той общности, в качестве которой мы себя осознаем. Даже между многими представителями автохтонных народов региона частота межэтнических браков не выше, чем со многими другими народами России. Во всяком случае, это верно при сравнении уровней метизации с русским этносом.
9. Внешние вызовы. Любая диссипативная структура, несмотря на спонтанный характер самоорганизационных процессов, в значительной степени зависит в своем развитии от внешних факторов. И если внешнее воздействие на разные составляющие системы будет однонаправленно, тогда это может послужить в качестве важного фактора интеграционного свойства. Известно, что социально-этническая и культурная общность кавказских народов за пределами этого региона воспринимается значительно выше реального уровня. Поэтому часто этнические особенности одного народа приписываются всем прочим. Например, большая часть россиян причисляет кавказцев к культурно-хозяйственному типу рыночных торговцев. В действительности же значительное большинство северокавказских народов зарабатывает, торгуя на рынке ощутимо реже других народов России, в силу присущей им гордыни считая это занятие недостойным. Исключение составляют главным образом лишь народы Дагестана, слишком велико было здесь влияние закавказских республик и восточной культуры. Имеются и более яркие примеры такого преувеличения кавказской общности. После известных событий в Чечне получить американскую визу будет сложнее не только чеченцам, но и всем другим жителям Кавказа. Известно также, что объектом более пристального внимания правоохранительных органов за пределами этого региона являются не только представители автохтонных народов Кавказа, но и все прочие ее жители. Все это накладывает определенный отпечаток на народы Кавказа, невольно сплачивая их.
Проведенный анализ показывает, что кавказская общность в плане этническом, генеалогическом, экономическом и политическом весьма условна, во всяком случае, в настоящий момент времени. Филогенетически народы Кавказа представляют весьма пеструю полифилетическую ветвь, вернее даже множество ветвей, в которых даже расовый состав далеко не однороден в результате смешения в некоторых этнических группах европеоидной и монголоидной рас.
Однако почему же тогда на протяжении многовековой истории кавказские народы так и не смогли интегрироваться в единую этносоциальную общность? Речь идет не только об этнической интеграции, но также и о социально-политической, культурной, религиозной и экономической. В этническом плане Кавказ, помимо автохтонных народов, всегда представлял и все еще представляет весьма пеструю и разрозненную смесь автохтонных кавказских народов, армян и родственных им греков, персидских и тюркских народов, славян и многих других.
С одной стороны, конечно, трудно отрицать, что этногенетические процессы, как и биологическая эволюция, необратимы, во всяком случае после прохождения бифуркационного порога необратимости, с другой – ничто им, казалось бы, не мешает интегрироваться в некую суррогатную надэтническую общность, как, например это произошло с североамериканской нацией. По-видимому, одной из главных причин, препятствующих такой интеграции, было то, что народы Кавказа никогда, в общем-то, и не были в составе какой-либо целостной общности. Даже во времена Советского Союза, когда вся его территория была в составе одного государства, республики имели гораздо больше контактов с центром, чем между собой. В каждой закавказской республике были свои научные и культурные центры, северокавказские же научный, культурный и общественно-политический центры вообще находились в Ростове, что в большей степени способствовало интеграции коренных северокавказских народов с Россией, чем с другими союзными республиками Закавказья.
Народы Кавказа, попадая в зону стратегических интересов северных и южных держав, испытывали весьма неоднозначное давление. По-видимому, немаловажным фактором, препятствующим такой интеграции, является значительная гетерогенность ландшафта и влияние непохожих друг на друга соседей. Если бы Кавказ длительный исторический период времени находился внутри единого макроэтноса, то вполне вероятно его народы либо ассимилировались им, либо превратились в столь же единый и сравнимый по силе этнос. Кавказ же невольно превратился в своеобразную буферную зону между Востоком и Западом, православием и исламом. Народы Кавказа с переменным успехом испытывали влияние православия (с юга Византии и России с севера) и ислама (с юга Персии и Османской империи с севера, различных тюркских племен).
И в настоящий момент на Кавказе доминируют центробежные процессы над центростремительными, поскольку влияние Востока, Запада и России в различных регионах Кавказа столь же неоднозначно. На Азербайджан гораздо большее влияние оказывала Персия и Турция. Большое влияние оказало казачество на Осетию, а осетины и черкесы на казачество и т.д. В результате мы имеем, пожалуй, одну из самых пестрых в мире этнических общностей, если вообще приемлемо считать кавказские народы общностью. Можно несколько обмануться при поверхностном взгляде кажущейся антропологической общностью весьма далеких народов. Это обманчивое впечатление, вероятно, объясняется конвергенцией [39] в результате многовекового проживания в сходных условиях. По современному этническому портрету (как антропологическому, так и этнографическому) исторически близких народов уже практически невозможно вычислить общие корни. Адыгские племена по ряду признаков, как этносоциальных так и антропологических, имеют гораздо меньше общего с родственными им вайнахами, относящимися, как и они, к кавказской языковой группе, чем с осетинами (персидская языковая группа) или с балкарцами (тюркская группа). Причем осетины по своему современному этническому портрету гораздо дальше от персов, чем, например, тюркоязычные азербайджанцы. Таты же, имеющие те же персидские корни, считают себя евреями (семитская группа) и вполне обоснованно, исходя из того, что национальное самосознание является важнейшим и определяющим этническим критерием.
Неудивительно, что на Кавказе имели место не столько макробифуркационные процессы, сколько независимые и разнонаправленные спонтанные микробифуркации, еще больше центробежно разделяющие даже исторически близкие народы, что, например, мы наблюдаем между Чечней и Ингушетией. Следует иметь в виду, что даже при самых благоприятных условиях для межэтнической интеграции, последнюю ни в коей мере нельзя отождествлять с межэтнической ассимиляцией. Бифуркации практически необратимы, отсюда и вся очевидная несостоятельность стирания граней между нациями в социалистический период истории и концепций межэтнического «плавильного котла». Это возможно лишь до окончательного формирования самосознания этноса и лишь в том случае, когда ассимилируемые этнические группы достаточно пластичны или чрезвычайно малочисленны, как, например, в случае с ассимиляцией убыхов в Турции.
Впрочем, если макроинтеграционные процессы на Кавказе несущественны, то в более низкоуровневых надэтнических группах наблюдаются довольно ощутимые центростремительные интеграционные процессы. В результате формируются вполне реальные межэтнические общности. Мы выделяем семь таких кавказских или близко с ними связанных общностей.
1. Тюрко-иранская (Турция, Иран, Азербайджан).
2. Армянская (Армения, Нагорный Карабах, зарубежная диаспора).
3. Картвельская (большая часть Грузии).
4. Вайнахская (Чечня, Ингушетия, часть Дагестана).
5. Дагестанская.
6. Адыго-тюрко-аланская (КБР, КЧР, Адыгея, Северная и Южная Осетия, Абхазия).
7. Славянская.
Для наглядности приведены лишь наиболее характерные составляющие указанных групп. Все они имеют уровень интеграции с Россией и другими социально-этническими центрами гораздо более высокий, чем между собой. Исключение составляет лишь дагестанская надэтническая группа, в которой уровень интеграции с другими народами Кавказа сравним с уровнем интеграции с Россией и некоторыми другими государствами, что связанно с весьма пестрым этническим составом республики. Процессы генно-культурной коэволюции внутри каждой из этих подгрупп носит мягкий, эволюционный характер, что исключает вероятность ломки сложившихся внутренних этнических элементов. Напротив, как правило, интеграция протекает с коррелятивным усилением дифференциации. Поэтому ни о каком межэтническом слиянии народов Кавказа, даже в отдаленном будущем, не может быть и речи. Даже такие близкие народности, как, например, чеченцы и ингуши, балкарцы и карачаевцы, уже прошли порог необратимого разделения. В связи с тем, что внутренние интеграционные процессы, протекающие между различными надэтническими общностями Северного Кавказа, сопоставимы либо ниже, чем таковые с Россией, представляется маловероятным естественный бифуркационный переход к самостоятельному государственному образованию без жесткого принудительного воздействия извне.
Впрочем, как отмечает Х. Г. Тхагапсоев, если нельзя говорить о кавказской цивилизации в целом, то это вполне может быть приемлемо в отношении ее части. Некоторые кавказские народы объединяет, прежде всего, уникальная коммуникативная культура «лектонического» типа [93, с.164–185]. Лектон, в греческой философии, трактуется как своеобразный метод постижения бытия, который разворачивается как процесс взаимодействия чувственного мира и его субъективного отражения. Дело в том, что некоторые народы, которые в данной работе трактуются как адыго-тюрко-аланская и вайнахская общности, действительно характеризуются общностью коммуникативной, синкретической культуры. В условиях горных ущелий, когда люди вынуждены были проживать малыми изолированными группами, особенно велика коммуникативная роль непосредственного общения. В таких условиях возрастает роль старшего, но старшим, в отличие от примитивных патриархальных культур, может стать каждый, поэтому такая лектоническая система весьма демократична и эффективна в условиях проживания малочисленными группами. Такая общность не могла не сыграть некоей интегрирующей роли между указанными этническими образованиями. К тому же такой межэтнической интеграции способствовал институт аталычества (когда дети воспитывались в чужих семьях). Не меньшую интегрирующую роль сыграли традиции кровной мести, приводящие к вынужденной миграции части населения, при сохранении чрезвычайно жестких запретов браков даже между весьма далекими родственниками. Все это, безусловно, способствовало частичной генно-культурной ассимиляции. Поэтому указанные этнические группы сформировали целый ряд общих черт: мифология (нартский эпос), почитание старших. Но самое главное и определяющее здесь – ритуализованный, церемониально-этикетный характер коммуникации, ведущая роль старшего в любом акте культурной коммуникации, а также преобладание в актах коммуникации мобилизационной направленности на демонстрацию своей культуры.
Вероятно, важнейшим интеграционным фактором между лектоническими культурами Кавказа был запрет браков между родственниками вплоть до седьмого колена. Это часто вынуждало искать невест не только в отдаленной местности, но и у других культурологически близких народов. Однако христианские и даже исламские запреты межродственных браков значительно менее жестки. Поэтому неудивительно, что дагестанские и вайнахские народы, в которых были довольно сильны исламские традиции, в конечном счете, дистанцировались от лектонической общности прочих лектонических культур горцев.
Впрочем, в настоящее время эти факторы, безусловно интеграционного характера, теряют свою роль. Сложно сказать, что это – следствие цивилизационного роста или деградации. Видимо, и то и другое, поскольку, с одной стороны, современная этническая культура не может основываться в своем развитии на непосредственные акты коммуникаций, но с другой – это разрушает весьма тонко сбалансированную и эффективную систему социального сосуществования. И это особенно тревожно в связи с тем, что некоторые народы слишком часто демонстрируют неготовность к сосуществованию в условиях Западной коммуникативной культуры.
Каковы же перспективы дальнейшего развития Северо-Кавказского региона в качестве самостоятельного субъекта общественно-политического процесса? По нашему мнению, едва ли стоит говорить даже в отдаленном будущем о возможности существенного углубления интеграционной общности субъектов Кавказского региона. Если такая общность и будет искусственно навязана, то это может привести к полному самопроизвольному распаду всей системы и уничтожению уже имеющихся связей. Если же говорить о более далекой перспективе, тогда тенденции к стабилизации, с одной стороны, и формирование и развитие структур регионального уровня – с другой, могут привести, в конечном счете, к эволюционному нарастанию кооперативных связей с последующим революционным (бифуркационным) переходом к условно самодостаточной целостной структуре в рамках еще только формирующейся российской цивилизации.
Правильно и закономерно, что мы считаем «хорошими» те обычаи, которым научили нас родители; что мы свято храним социальные ритуалы, переданные нам традицией нашей культуры. Но мы должны, со всей силой своего ответственного разума, подавлять нашу естественную склонность относиться к социальным нормам и ритуалам других культур как к неполноценным. Мы должны научиться терпимости к другим культурам, должны отбросить свою культурную и национальную спесь – и уяснить себе, что социальные нормы и ритуалы других культур, которым их представители хранят такую же верность, как мы своим, с тем же правом могут уважаться и считаться священными. Без терпимости, вытекающей из этого осознания, человеку слишком легко увидеть воплощение зла в том, что для его соседа является наивысшей святыней.
К. Лоренц. Агрессия
Часть 3
Фазы этноэволюции
3.1. Общий обзор
Этнос, как и любая сложная эволюционирующая система, стареет. Постепенно его структура наполняется все большей устойчивостью, а значит, снижаются адаптационные возможности этноса к значительным флуктуационным всплескам. Такой вывод может вызвать определенный протест, поскольку принято считать, что эволюция всегда идет в направлении к всё возрастающей способности гашения флуктуаций, и это тоже, как это ни парадоксально, верно. Все объясняется достаточно просто, например, простейшие жизненные формы, такие, как вирусы и прокариоты, наименее устойчивы, но в то же время при самых серьезных глобальных катаклизмах исчезают последними. Точно так же и развитая техногенная инфраструктура современных культур способна защитить только от катастроф умеренной силы. В случае катастроф глобального порядка наши современные города-крепости становятся еще опаснее естественного окружения. Все дело в том, что платой за устойчивость тактическую является устойчивость стратегическая.
Старение этносов далеко не всегда идет достаточно ровно. Малые этносы, если они к тому же интенсивно развиваются, являются этносами-эфемерами, они быстро развиваются и также быстро угасают. Крупные этносы, в особенности если они консервируются в собственном развитии, имеют теоретически, при соблюдении ряда условий, главным из которых является стабильность, возможность существовать неограниченно долго. Все осложняется тем, что структура этноса никогда не бывает статична (исключая реликтовые этнические культуры), она может иногда в корне менять свою генетическую структуру, в результате экзогамии, могут меняться и императивы ее развития и даже культурологическая структура. Главное, чтобы сохранялась основная ось преемственности развития этноса, на которой базируется его основа – самосознание. Этнос может многократно омолаживаться благодаря приливу свежих сил, за счет иммиграционного пресса. Наглядный тому пример с древнейшим китайским макроэтносом, который давно, казалось бы, перешел к фазе идеационального развития [40], а ныне, по многим объективным критериям, является носителем прагматической культуры. Всему виной миграционный пресс. В качестве доказательства достаточно упомянуть, что в изолированных территориях Китая, как, например, в Тибете, сохранились все признаки идеациональной культуры.
Приведем пример с ассирийским этносом. Очевидна его древность, но по своему нынешнему портрету – это довольно молодой народ, весьма энергичный, с довольно хорошим биологическим потенциалом. Можно, конечно, сказать, что это уже не те ассирийцы, но главный критерий этнической идентичности – его самосознание – остается. Если же строго диагностировать этнос по всем прочим критериям, тогда ни один этнос, существующий более века, не сможет считать себя тем же народом. Ведь любой представитель современного европейского этноса похож на русского гораздо больше, чем любой русский на своего соплеменника XIX века. Поскольку одним из фундаментальных свойств глобального эволюционного процесса является постоянное ускорение прогрессивного развития, то и этносы, возникшие позже, соответственно развиваются и стареют быстрее. Поэтому нельзя давать даже приблизительные сроки, отведенные этносу для его существования. Этнос всегда вынужден балансировать между развитием, которое неизбежно связано с утерей некоторых уникальных этнических черт, и необходимостью сохранения собственной самобытности. Слишком жесткая установка на сохранение самобытности чревата остановкой развития, тогда как другая крайность несет опасность полной этнической ассимиляции.
На первом этапе своего развития, когда этнос еще не укрепился и вероятность ассимиляции максимальна, основной упор делается не на развитие, а на сохранение собственной этнической структуры – эту фазу развития мы называем патриархальной. Затем, когда этническая структура утвердится, а этнический потенциал развития еще сохраняется довольно высоким, начинается интенсивный рост и развитие этноса – это так называемая прагматическая фаза. Основным двигателем прогрессивного развития этносов является рост потребностей, который всегда опережает их удовлетворение. Постепенно наступает момент, когда разрыв между уровнем потребностей и их удовлетворением настолько возрастает, что человек вынужден для снижения внутренней неудовлетворенности все больше концентрироваться на их удовлетворении в ущерб развитию. Происходит медленное растрачивание накопленного в прагматической фазе потенциала – эту фазу мы называем гедонистической или, согласно концепции П. Сорокина, чувственной (эмпирической). Однако разрыв и вместе с тем неудовлетворенность продолжают нарастать, накопленный потенциал иссякает, и человек ищет выход, обращаясь к высшим духовным и морально-этическим ценностям, деградация материальной культуры компенсируется ростом культуры духовной – эту фазу развития мы также, вслед за Сорокиным, называем идеациональной.
Отметим один любопытный факт. Есть свойства этноса, которые меняются плавно, градуалистически и зависят не столько от фазы развития, сколько непосредственно от возраста, а есть свойства, являющиеся непосредственным императивом развития для каждого исторического уровня этноса. К градуалистическим свойствам этнического возраста можно отнести, например, возрастание ценности человеческой жизни, нарастание требовательности к педантичности и пунктуальности, переход все большей функциональной нагрузки в управлении развитием общества к государственным структурам, а также, с некоторыми исключениями, возрастание потребностей и бережливости. К дискретным, квантовым императивам развития можно отнести те возрастные свойства этноса, которые являются характерной его чертой именно для определенного этапа развития. Например, по отношению к предметам материальной культуры в патриархальной фазе развития предпочитаются, прежде всего, те предметы, которые являются носителями традиций. В прагматической фазе предпочитаются вещи, имеющие максимальную ценность в денежном эквиваленте. В чувственной предпочитаются вещи, несущие максимум функциональности и эргономичности и удовлетворяющие чувственные потребности. В идеациональной фазе вообще теряется ценностная значимость предметной культуры, она имеет ценность лишь как проводник духовности. Или вот такая закономерность развития: сначала труд ради выживания (патриархальная фаза), затем труд ради праздности (прагматическая фаза), а затем праздность становится основой развития, труд необязателен либо вторичен (чувственная фаза). В идеациональной фазе труд ради труда не несет никакой прагматической нагрузки, он только лишь как средство духовного обновления. И соответственно движение от экономии ради выживания [41], к экономии ради накопительства, затем к экономии ради расточительства [42] и экономии ради духовного роста. Если основным императивом прагматической культуры является «построй дом, посади дерево, вырасти сына», то императивом чувственной культуры является «один раз живем, бери от жизни все». Для идеациональной культуры основной целью жизни становиться желание вырваться из оков «сансары». У реликтовой культуры вообще нет никаких императивов, они просто живут для того, чтобы жить.
Конечно же, это весьма упрощенная, формализованная модель этноэволюции. Под влиянием соседних этносов, находящихся на более поздней эволюционной стадии, развитие может ускоряться, либо даже этнос может миновать в своем развитии некоторые фазы. Иногда, в результате социальных, реже природных катаклизмов, происходит откат назад в развитии, частичная инволюция. Ведь, по сути, социальный детерминизм, в отличие от детерминизма биологического, ненаследственный. Развитию мы обязаны ламаркистской неразрывной цепи все более глубокой социализации каждого нового поколения. Здесь действует все тот же закон социального детерминизма, что и в антропогенезе, согласно которому социализация усиливает дальнейшую социализацию. Если же мы, по каким-либо причинам не воспитывались в условиях столь же глубокой социализации под жестким и неусыпным контролем родителей и воспитателей, то и наши дети продолжат путь, как бы отступив на несколько шагов назад. И только дети внуков военного поколения уже полностью освобождаются от проклятия частичной десоциализации военного времени. Как знать, может быть и в чеченском катаклизме повинен также и частичный их откат к патриархальности, в результате выселения в Среднюю Азию, и мы сейчас пожинаем плоды все той же фатальной ошибки? Иногда развитие консервируется, в случае, когда в результате нахождения в областях стабильности и минимума контактов с другими народами рост потребностей стабилизируется, при этом образуются так называемые реликтовые этносы, как, например, коренные северные народы, аборигены Полинезии и Австралии, некоторые реликтовые племена африканских джунглей или латиноамериканской сельвы. Этот особый тип этнической культуры, весьма специфичный и сравнительно редкий, мы называем вторично-патриархальной, или реликтовой культурой. Поскольку, в отличие от культуры первично-патриархальной, она менее пластична и более пассивна, но в целом сохраняет все характерные черты патриархальности.
Патриархальная культура живет прошлым, прагматическая же живет будущим, поскольку движение вперед составляет ее суть. Чувственная живет только настоящим, о будущем ей некогда думать. Что лучше, сказать сложно, консерваторы-ретрограды чужды идеям прогресса, но зато лучше хранят традиции и этические ценности, релятивисты-технократы смотрят в будущее, но без твердой аксиологической опоры это может быть только весьма недалекое будущее.
В данной работе предлагается модель этноэволюции, в отдельных аспектах близкая моделям Н. Данилевского, О. Шпенглера, А. Кребера, Г. Беккера, Ф. Нортропа, А. Швейцера, П. Сорокина, А. Тойнби, Ф. Конечны и Л. Гумилева. Такие модели многими принимались в штыки, и дело, видимо, не столько в их надуманности, сколько в том, что мы подсознательно не хотим принимать на веру те теории, которые содержат хотя бы некоторые элементы провиденционализма. Ведь это будет означать, что мы не свободны в своем развитии. Конрад Лоренц назвал это эмоциональной антипатией к признанию того, что наше поведение подчиняется законам естественной причинности. «Бернгард Хассенштайн дал этому определение «антикаузальная оценка». Смутное, похожее на клаустрофобию чувство несвободы, которое наполняет многих людей при размышлении о всеобщей причинной предопределенности природных явлений, конечно же, связано с их оправданной потребностью в свободе воли» [18, с.219–220].
Впрочем, предлагаемая автором модель этноэволюции является, как и у Тойнби, открытой, в ней предполагается, что активная роль человека в определении темпов и направления развития довольно высока. К тому же не стоит забывать, что социальные законы ничего жестко не определяют, а только лишь предполагают наиболее вероятные пути развития. Здесь все еще менее детерминировано, чем в органической природе, и все трактуемые закономерности развития – это не более, как векторы наиболее вероятных путей исторического развития, начертанные пунктирной линией, и всегда во власти человека изменить ход истории.
В некоторой мере предложенная модель является продолжением многих идей, выдвинутых американским социологом русского происхождения Питиримом Сорокиным, поэтому проанализируем некоторые аспекты его концепции.
Человечество Сорокин делит на различные монадные культуры, и хоть культуры, по Сорокину, не столь замкнуты, как у Шпенглера, развитие каждой их них протекает в целом независимо. Культура в своем развитии проходит две основные фазы развития – чувственную, в которой человек ориентируется, прежде всего, на удовлетворение эмпирических, чувственных потребностей, и идеациональную, в которой внимание акцентируется на потребностях духовных. В моменты перехода между указанными культурами возможны глобальные кризисы. И именно такой переходный период, согласно Сорокину, мы и переживаем в настоящее время. «Мы как бы находимся между двумя эпохами: умирающей чувственной культурой нашего лучезарного вчера и грядущей идеациональной культурой создаваемого завтра. Мы живем, мыслим, действуем в конце сияющего чувственного дня, длившегося шесть веков. Лучи заходящего солнца все еще освещают величие уходящей эпохи. Но свет медленно угасает, и в сгущающейся тьме нам все труднее различать это величие и искать надежные ориентиры в наступающих сумерках. Ночь этой переходной эпохи начинает опускаться на нас, с ее кошмарами, пугающими тенями, душераздирающими ужасами. За ее пределами, однако, различим рассвет новой великой идеациональной культуры, приветствующей новое поколение – людей будущего» [94, с.427].
Сорокин довольно убедительно и последовательно характеризует основные тенденции развития чувственной и идеациональной культур, подкрепляя свои выводы многочисленными фактами, практически сводя развитие человечества к этим двум парадигмам. Правда, он выделяет еще и третью парадигму развития культур – идеалистическую. Однако считать ее самостоятельной парадигмой сложно, поскольку она, будучи переходным этапом между эмпирической и идеациональной культурами, не несет в себе никаких уникальных черт. Трудно все же упрекнуть Сорокина в излишнем упрощении. Ведь, по сути, он за основу такого деления берет практически исключительно духовную сферу человеческой деятельности, отношение человека к высшим трансцендентальным началам. А в этом случае, действительно, патриархальную культуру объединяет с прагматической и чувственной культурами большая бездуховность в сравнении с культурой идеациональной. Впрочем, и здесь можно констатировать некоторую дифференциацию духовных начал.
Культура патриархальная акцентируется в своем искусстве практически только на самобытности, всячески избегая заимствований, поскольку эта культура сугубо интравертная. Ей, в период становления национальной самобытности, важно сохранить и укрепить духовную ось собственной этнической культуры. Но она в тех случаях, когда вырастает на руинах ушедшей идеациональной культуры, может сохранить и многие черты ее духовной культуры, как это было во Франкской империи, которая получила в наследство от идеациональной культуры Рима христианство. Впрочем, религиозность Средневековья имела мало общего с истинной религиозностью идеациональной культуры. Ведь разве можно смутные времена междоусобиц и войн мрачного и кровавого Средневековья отождествлять с идеациональной культурой. Поэтому Сорокин считал средневековую культуру промежуточной идеалистической культурой, в которой основным идеологическим стержнем можно считать философию Аристотеля и Фомы Аквинского, представляющую характерный синтез идеационально-чувственной идеологии. Ведь христианство служило преимущественно целям укрепления самобытности формирующихся патриархальных культур, тогда еще весьма молодых и агрессивных европейских этносов. Вместе с тем религиозность патриархальной культуры, служа практическим целям укрепления и сохранения самобытности народа, имеет мало общего с истинной религиозностью идеациональной культуры. В культуре идеациональной религиозность идет изнутри человека, исходя из его внутренних потребностей. В культуре же патриархальной религиозность утилитарна и потому часто безнравственна в своей глубинной сути. Она служит цели отторжения чуждого народа и чуждой идеологии и потому сама она бывает чужда истинным духовным началам.
Прагматическая культура является, в свою очередь, культурой наиболее далекой от идеациональной культуры, когда старые корни трансцендентальной культуры уже начали забываться, а новые ростки сверхдуховности еще не развились. Этот период наиболее губителен для духовной культуры, когда искусство имеет ценность только как предмет престижа или реальной стоимости. В чувственной же фазе [43] уже начинают пробиваться первые робкие ростки идеациональной духовности, когда все больше людей начинает осознавать всю безысходность изнуряющей гонки за собственными потребностями. У Сорокина прагматическая и чувственная культуры не разделены, однако можно ли считать прагматическую культуру, утилитарную по сути, истинно чувственной. Ведь нет ничего, казалось бы, общего между бизнесменом трудоголиком, всю жизнь посвятившего работе, и его сыном-«эпикурейцем» [44], растратчиком отцовского состояния. Их объединяет только одно – сугубо материалистический взгляд на мир, а Сорокин именно этот критерий берет за основу, поэтому авторская трактовка никоим образом не противоречит трактовке Сорокина.
При всех особенностях этнических культур, по многим показателям можно найти как единство между прагматической и чувственной культурами, по Сорокину, представляющими единую чувственную культуру, так и патриархальной (идеалистическая культура) и идеациональной соответственно. Поэтому, при некотором упрощении, их вполне можно объединить. Приведем, в несколько упрощенном виде, некоторые характеристики, отличающие эти культуры (см. таблицу 4).
| Прагматическая и чувственная культуры | Идеациональная и патриархальная культуры | |
| 1 | Свобода | Авторитаризм |
| 2 | Перемены | Стабильность и преемственность |
| 3 | Новаторство | Стремление к сохранению традиций |
| 4 | Рациональное мышление | Интуитивное мышление |
| 5 | Обуздание природных стихий | Обуздание человеческих страстей |
| 6 | Материалистическая ориентация | Духовно-ценностная ориентация |
| 7 | Утилитаризм | Альтруизм |
| 8 | Индивидуализм | Коллективизм |
| 9 | Конкуренция | Кооперация |
| 10 | Системообразование | Системосохранение |
| 11 | Активно-созидательная, экстравертная культура | Пассивно-озерцательная, интравертная культура |
| 12 | Прогрессивное общество, основанное на подражании талантливым | Традиционное общество, основанное на подражании старшим |
| 13 | Экспансия | Консервация |
| 14 | Редукционистское мышление | Холистическое мышление |
Таблица 4. Характерные императивы развития прагматической и чувственной культур, в сравнении с таковыми идеациональной и патриархальной культур
Сорокин, подобно Шпенглеру и Гумилеву, задает слишком жесткие временные рамки в развитии культур. У всех этих авторов, с небольшими вариациями, срок исторического развития культуры либо этноса, колеблется в пределах XII–XIV веков. Даже если рассматривать только крупнейшие культуры, что уже не совсем корректно, то и тогда вариабельность может колебаться от нескольких веков до нескольких тысяч лет, и это, разумеется, исключая все формы насильственного ухода со сцены мировой истории. В малых этносах вариабельность еще выше. Малые народы могут развиться до уровня макроэтноса и успеть за свою историю разменять не одно тысячелетие, а могут попасть под покровительство зрелой чувственной культуры и, быстро развившись и деградировав до ее уровня, вместе с ней уйти со сцены, так и не пожив свой положенный срок. Крупным этносам это практически не грозит в связи с их численным превосходством, поэтому они, как правило, больше склоны к интеграции. Во всех случаях старение этноса ускоряется в спокойные времена, когда внешние и внутренние вызовы минимальны, и может замедляться, либо даже обращаться вспять в период войн и смут. Война – это, пожалуй, самый бессмысленный и безнравственный способ омоложения нации. Реликтовые этносы, живущие в безвременье, вообще законсервированы в своем развитии и могут существовать в таком состоянии теоретически сколь угодно долго, разумеется, при условии стабильности их ареала. Есть и более естественный способ вырваться из пут старения, а с ней распада и деградации этноса – это законсервировать рост материалистических начал, сконцентрировавшись на началах духовных. Ведь только сознание, будучи мощным эктропийным [45] фактором, не платит за свою эктропийность хаотизацией окружающей среды, и именно поэтому сознание не ограниченно никакими внешними факторами и может развиваться теоретически бесконечно. Конечно, при условии, если его пластичность стабилизируется или будет расти в результате плюрализации. Поэтому сознание теоретически не подвержено разрушению, если мы сами не дадим возобладать над ним чувственным началам.
Интересно отметить, что Сорокин, обличающий науку чувственной культуры в ориентировании только на утилитарно-позитивистские подходы в исследованиях, сам, в общем-то, часто довольствуется позитивистскими методами, ограничиваясь только констатацией фактов как данности, подтвержденной многочисленными табличными статистическими сводками. В частности, в изобилии предложенных фактов, действительно подтверждающих многие его выводы, автору так и не удалось найти раскрытие глубинных причин цикличности развития культур, механизмов и движущих сил, порождающих развитие культур именно по такому сценарию. Сорокин, в частности пишет: «Ни одна из форм культуры не беспредельна в своих созидательных возможностях. Когда созидательные силы исчерпаны и все их ограниченные возможности реализованы, соответствующая культура и общество или становятся мертвыми и не созидательными, или изменяются в новую форму, которая дает новые созидательные возможности и ценности. Все великие культуры, сохранившие творческий потенциал, подвергались как раз таким изменениям» [94, c.433]. Значит, все дело именно в творческом потенциале, который каким-то образом растрачивается культурой. Такое объяснение тесно перекликается с точкой зрения Шпенглера, согласно которому угасание культуры начинается после того, как его душа реализовала все свои потенции [95], и Тойнби, у которого закат культуры связан с утратой созидательной силы творческим меньшинством [66]. Такое объяснение цикличности можно принять разумным только в качестве образной метафоры, истинные корни перерождения культур нужно искать глубже.
3.2. Первично патриархальная фаза развития этноса
Итак, этнос рождается тогда, когда группа людей начинает осознавать себя отличными от других аналогичных групп. И если эндогамия значительно выше в такой группе, нежели экзогамия, а также, что еще важнее, внутренние культурологические контакты превысят внешние, тогда можно сказать, что это именно этническая, а не субэтническая общность людей. В начальный период своего существования этнос еще не обладает устойчивым комплексом критериев этнической идентичности. Собственная национальная культура еще только формируется, антропологические различия, как и язык, слабо различимы от праобразующего этноса, от которого отпочковался новый этнос. Право на автономию в занимаемой этносом территории далеко не сразу признается праэтносом, которому не выгодны никакие потери. Другие народы видят в нем, первоначально, все тот же праэтнос. И что же остается? Остается этническое самосознание, которое изначально настолько высоко, что с лихвой компенсирует все прочие недостатки этнической идентичности. Это особенно важно в начальный период существования нового этноса, поскольку все еще велика возможность его ассимиляции праэтносом. Поэтому первично-патриархальная культура всегда интровертна по своей сути, ей нужно сохраниться, утвердиться, добиться признания другими народами, а уж потом можно подумать и об интеграции. Такая культура создает целый ряд мер, в том числе и законодательных, ограничивающих экзогамию. Очень часто это достигается путем смены вероисповедания. Все силы концентрируются на развитии собственного культурного наследия, и в первую очередь, собственного уникального языка, в котором особенно важно свести к минимуму языковые заимствования, а также закрепить культурологические отличия от праэтноса, чтобы свести к минимуму вероятность ассимиляции.
Патриархальная культура ориентируется в своем развитии на прошлое. Казалось бы, как еще только формирующаяся культура, у которой фактически и нет прошлого, может на него ориентироваться. Конечно же, патриархальная культура, задержавшаяся в своем развитии, может насчитывать и тысячу лет, но ведь есть еще молодые, только становящиеся патриархальные культуры. Дело в том, что этнос только тогда этнос, когда у него появляется свое прошлое. Этническое самосознание должно, прежде всего, ориентироваться на историю своего народа, какой бы короткой она ни была, а для только становящегося этноса это особенно важно. Поэтому, одним из условий выделения субэтноса в самостоятельный этнос является накопление собственного исторического достояния. Если же, волею судьбы, этнос сформировался раньше этого срока, в результате ответа на внешние вызовы или же политической изоляции, тогда патриархальное общество начинает ориентироваться на историю своего праэтноса, считая его своей историей и даже только своей. В любом случае, если не сформируется такой образ исторического, либо даже мифологического прошлого, этнос обречен. Такие общества Тойнби назвал традиционными, поскольку уже через несколько поколений формируется целый комплекс традиций, формирующих идейный, культурологический стержень этноса. Сохранение традиций играет наиболее значимую роль в таких культурах, в которых высок риск ассимиляции. Очевидно, что такой риск особенно высок в самых молодых, становящихся культурах. Именно в молодых культурах при этом отдается предпочтение уникальным традициям, отличающим новый народ от прочих. И если изначально, когда традиции только формируются, культура была направлена в будущее, то уже через несколько поколений культура концентрирует приоритеты не на формирование новых традиций, а на сохранение старых. Культура оборачивается вспять, в прошлое.
Как отмечает Энтони Смит, национальная идея концентрируется на вере в общих предков, в то, что когда-то их народ жил в «золотом веке», что их народ, когда-то имел огромные территории и богатейшую культуру и что надо верить в будущее возрождение [96]. Согласно Смиту, по такой схеме строится национальная идея практически всех народов. Однако, с нашей точки зрения, это далеко не так. Такая модель интеграции народов свойственна, главным образом, традиционным обществам. Традиции передаются от одного поколения другому, при этом часто их первоначальная прагматическая функция пропадает, но их ценность для народа все равно сохраняется и даже возрастает. Дело в том, что не столь важна практическая польза тех или иных традиций, гораздо важнее, чтобы они несли в себе уникальный культурологический этнический стержень «души этноса». Например, отказ от употребления свинины арабами и израильтянами был связан изначально с заболеванием трихинеллезом. И некоторые «правоверные» и поныне с готовностью от нее отказываются, забывая о гораздо более значимых религиозных запретах, ведь от свинины отказаться значительно проще.
Но в патриархальной культуре традиции – это не просто экзотические обряды на потребу туристам, они суть, зерно этноса, его осевой стержень, потеряв их, этнос тут же погибнет, ассимилировавшись другим народом. А для представителей патриархального этноса это быть может даже страшнее собственной гибели. О таких людях Гумилев пишет: «…каждый активный строитель этнической целостности чувствует себя продолжателем линии предков, к которой он что-то прибавляет. Для них характерно отсутствие личной заинтересованности. Они как будто любили свое дело больше себя. Но это не альтруизм: предмет их любви был в них самих, хотя и не только в них. Они чувствовали себя не просто наследниками великих традиций, а частицами оных. Люди этого склада встречаются во все эпохи, но в начальных стадиях этногенеза их значительно больше» [54, с.118].
Пока этнос не утвердился, новое может смыть волной космополитизма еще не окрепшую хрупкую структуру молодого этноса. Поэтому такая культура патриархальна, ориентирована в своем развитии на старшее поколение, а значит, прошлое, указывая ей путь в будущее, не позволяет радикально меняться. Период религиозного мракобесия и схоластики раннего Средневековья можно объяснить именно патриархальностью в то время еще молодых европейских этносов, одной из главнейших осей этнической преемственности в которых и была христианская доктрина.
Конфессиональность для патриархального этноса – это, прежде всего, средство самосохранения и экспансии, поскольку, как было рассмотрено выше, этнос расширяется не столько биологически, сколько посредством культурной экспансии, захватывая менее пассионарные этнические общности, независимо от того, насколько они биологически к ним близки. Поэтому конфессиональность в неидеациональных культурах является не столько сохранившимся островком идеациональности, сколько, не имеющей ничего общего с подлинной трансцендентальной духовностью, утилитарной защитной структурой этноса. Например, в Англии XV–XVI веков, тогда еще народа типично патриархального склада, понятие «англиканская церковь» было неотделимо от понятия «английская нация». В 1559 году будущий епископ Лондонский Джин Эйомер провозгласил, что Бог – англичанин и призвал своих соотечественников семь раз благодарить его за то, что они родились англичанами, а не итальянцами, французами или немцами [89]. Для них англиканская церковь фактически была не религией, а важнейшей этнической осью.
Такая культура, по сути, более агрессивна. Молодость закономерно агрессивней старости, к тому же она больше нуждается в самозащите. В своей вневременности и агрессивности она предстает перед культурами старыми как чуждый и опасный элемент, что вызывает встречную агрессивную реакцию, следствием которой может быть еще большая агрессия и резкий всплеск самосознания и националистических настроений. Поэтому к таким культурам требуется особенно тонкий и деликатный подход. Единственно возможной является политика пряника, политика кнута абсолютно неприемлема. Страны Ближнего Востока особенно остро ощутили агрессивность патриархальных культур Европы во времена крестовых походов. В результате зрелая чувственная культура ближневосточных народов была подорвана, так и не успев перерасти в культуру идеациональную. И кто знает, быть может, если бы ближневосточные этносы сумели сохранить основную ось своей тогдашней чувственной культуры, может, сейчас Европа не страдала бы от ближневосточного фундаментализма?
Впрочем, уровень агрессии сейчас несопоставимо ниже, чем во времена мрачного Средневековья, когда уничтожались целые народы. Поэтому ныне нас пугают многие вещи, происходящие в патриархальных культурах, несовместимые с гуманистическими принципами Нового времени. Не стоит только забывать, что они совсем другие и в чем-то даже лучше, поскольку не испорченны цивилизацией. И может быть, прав был Гордон, герой романа Джеймса Олдриджа «Герои пустынных горизонтов», считавший, что они гораздо свободнее и счастливее нас и не нужно им навязывать нашу демократию и материальную культуру, пока они сами этого не захотят. И все же такие культуры при тесных контактах с техногенными культурами быстро аккумулируют блага цивилизации. Но вот становятся ли они от этого счастливее?
Их состояние охарактеризовал Элстер: «Мы были счастливее до того, как получили эти новые диковинные вещи, хотя теперь почувствуем себя несчастными без этих вещей» (цит. по [97, с. 111]). Потребности значительно проще повысить, нежели снизить их, рост потребностей практически необратим естественным путем. И тогда заканчивается период развития этноса, в котором потребности являются элементарным средством существования, и начинается изнурительная гонка за их безудержным и всегда опережающим ростом. Кстати, если самопроизвольная этническая ассимиляция патриархальной культуры практически невозможна, то преодоление этносом эпохи патриархальности протекает довольно легко и при тонком балансе культурно-экономических контактов, при сохранении принципов невмешательства возможен очень быстрый скачок, с переходом к новой фазе развития, к прагматической культуре.
3.3. Прагматическая, утилитарная фаза
Патриархальный уклад практически оправдан тогда, когда необходимо сконцентрироваться на сохранении самобытности. И как бы не было сложно жить с оглядкой назад, на наших отцов, – именно так проще всего не потерять собственные корни, а с ними и последние крупицы собственного этнического самосознания. Однако с течением времени, когда этническая структура укрепляется, смена приоритетов превращается в насущную необходимость. Развитие становится важнее сохранения, а в этом случае необходима прогрессивная культура, опирающаяся в своем развитии не на старших, а на лучших, в независимости от возраста. Однако это необходимое, но недостаточное условие для смены патриархального уклада. Этносы, как и многие другие крупные исторические общности людей, далеко не столь «разумны» в своих устремлениях. Необходимость смены приоритетов могут осознать единицы. Кто за ними пойдет во все еще патриархальной культуре? Это необходимое, но не достаточное условие, и именно поэтому многие культуры веками топчутся на месте, даже и не предполагая, что можно двигаться вперед. Здесь необходим «толчок», после которого количество прогрессивно настроенных людей экспоненциально начнет возрастать, поскольку прогрессивная культура множит прогрессивно настроенных людей. Затем, когда причинно-следственная петля замкнется, дальнейшее развитие примет необратимый характер. Стимулировать переход к прогрессивному развитию может оглядка на успехи другой, более прогрессивной культуры, развитие социально-экономических связей с такой культурой.
Переход к прогрессивному развитию определяется ростом потребностей. Потребности весьма сложно снижать, но вот повышать их значительно проще. К хорошему быстро привыкаешь, даже если это снижает жизненную удовлетворенность. Можно спорить по поводу того, увеличивает прогрессивное развитие общества количество счастливых людей или нет, но очевидно, что если прогрессивная культура соседствует с патриархальной, при любом мирном исходе такого сосуществования скорее патриархальная культура пойдет за прогрессивной, чем наоборот.
Значительно сложнее найти источники толчка к прогрессивному развитию без оглядки на соседей, ведь как минимум одной культуре пришлось быть первой. Видимо, таким первоначальным толчком к росту потребностей были внешние вызовы со стороны других культур или природных стихий. Ведь потребности – это не только потребление, но и устойчивость. Так, согласно П.В.Симонову [98], все формы потребностей можно разделить на две группы: потребности сохранения (нужды) и развития (роста). И вот в условиях, когда постоянные внешние вызовы принуждают этнос развивать армию и укреплять границы, а внутренние вызовы – полицейскую и правовую систему, он невольно подтягивает за собой и прочие векторы общественного развития. В данном случае, конечно же, потребности роста будут нарастать значительно медленнее, но когда порог необратимого их развития будет преодолен, дальнейший его интенсивный рост будет обеспечен. Первичный переход к интенсивному развитию, к прагматической культуре был значительно более длителен, но однажды порожденную волну прогрессивного роста подобно цунами уже не остановить.
Итак, прагматическая фаза – это, прежде всего, интенсивный рост потребностей и соответственно интенсивный рост производства. Материальная выгода становится главной и определяющей основой развития, многие традиции, если они не имеют экономической основы, забываются. Этнос все отдает в угоду пользе, держа знамя утилитаризма. Этично то, что полезно, хорошо то, что приносит практическую пользу. В Европе первая волна наступления прагматической культуры началась в эпоху «Возрождения», и эта линия позитивного прагматизма продолжалась вплоть до полного формирования индустриальной экономики Запада. Политические идеи Т. Гоббса и Н. Макиавелли, утилитаризм И. Бентама, реформация, концепция демографического взрыва Т. Мальтуса (у которого, кстати, позаимствовал известное выражение «борьба за существование» Дарвин), знаменитое «правило невидимой руки» А. Смита [46], взгляды французских просветителей XVIII века (К. А. Гельвеций и др.), теория биологической эволюции Дарвина. Все эти концепции, стоящие на утилитаристских позициях «позитивного эгоизма», возникли именно в период наиболее интенсивного формирования новых капиталистических отношений, в период торжества прагматической культуры.
Патриархальная культура замкнута и эндогамна. Для того чтобы войти в состав патриархального этноса, надо родиться в нем, чтобы стать персом, надо было родиться персом. Прагматичная культура предельно открыта, и значительно проще войти в ее состав. Например, в Китае, в период его интенсивной экспансии, для того чтобы стать китайцем, даже не нужно было знать определенный язык, достаточно было принять китайские основы нравственности и культуры, а также определенные нормы поведения. В период прагматической экспансии византийской и арабской культур все было еще проще: принимаешь православие либо ислам – и становишься византийцем либо арабом соответственно. Поэтому прагматичная культура всегда интенсивно расширяется, причем не столько за счет собственного воспроизводства, которое несомненно велико, сколько за счет культурологической ассимиляции соседей. Люди прагматической культуры живут настоящим. «Люди этого склада забывают прошлое и не хотят знать будущего. Они хотят жить сейчас и для себя. Они мужественны, энергичны, талантливы, но то, что они делают, они делают ради себя» [54, с.119].
Крупнейший теоретик в области этнологии Ханс Кон выделял две основные национальные модели, «на Западе национализм [47] концентрировался на текущей политической борьбе и весьма мало был обращен в прошлое, то есть был ориентирован на достижение практических, рационально положенных целей. В национализме периферии очень сильный акцент делается на прошлом» [100, с.114]. Если подойти к указанным различиям с эволюционистских позиций, тогда они будут определять не столько этнические особенности, сколько различную стадиальность этнических культур. Средневековая Западная культура не в меньшей степени была ориентированна на прошлое, и только в эпоху Возрождения начали возобладать рациональные начала.
Развитие прагматической культуры могло бы длиться бесконечно, однако резервы пластичности, земных ресурсов и биологических возможностей человека ограничены, а рост потребностей ничто не ограничивает. Человеческие потребности всегда опережают возможности, и вот наступает момент, когда уровень потребностей зашкаливает за пределы возможностей. Человек начинает потреблять больше, чем производить. Этим знаменуется переход к чувственной фазе, когда люди могут много, но хотят значительно больше и поэтому живут либо в кредит, за счет того, что еще не заработали, либо начинают элементарно паразитировать.
3.4. Чувственная, гедонистическая фаза
Чувственная фаза развития этноса (у П.Сорокина она также трактуется как эмпирическая) – это начало конца, переломный момент, когда этноэволюция достигает своего пика, стабилизируется и медленно приближается к закату. Как правило, в этот период этнос достигает наибольших успехов во всех сферах жизни, кроме разве что духовной, которая начинает угасать по понятным причинам еще в прагматической фазе развития. Потребности достигают немыслимых высот, и казалось бы люди имеют все, что могли бы пожелать, но всегда появляются новые потребности. При внешнем благополучии в людях накапливается все большая неудовлетворенность. Потребности все дальше удаляются от собственного удовлетворения. Расцветают кредитные организации, поскольку людям хочется всего здесь и сейчас. Сфера услуг расцветает, отдых и праздность превращается в культ, а труд лишь средство его удовлетворения.
Впрочем, нельзя сказать однозначно, что чувственная культура обращается вспять в своем развитии, поскольку потребление превышает производство. Ведь известно, что уровень жизни в государствах, в которых образующими этносами являются чувственные культуры, наиболее высок. И более того, даже после социальных катаклизмов, когда от потенциала, накопленного прагматическими культурами прошлого, казалось бы, практически ничего не остается, такая культура восстанавливается быстрее какой-либо иной. Достаточно вспомнить об известном «немецком экономическом чуде». В чем здесь противоречие?
Во-первых, основной потенциал, накопленный прагматической культурой не в материальном богатстве, он внутри нас – это, прежде всего, интеллектуальный и духовный потенциалы. Можно уничтожить всю экономическую и военную мощь государства, но если останутся люди, его составляющие, тогда восстановление материального наследия будет лишь вопросом времени, поскольку гораздо важнее культурное наследие, а его не так то просто уничтожить. Для этого нужно время, и мы его с «успехом» прожигаем, растрачивая духовный потенциал.
Во-вторых, основа прагматической успешности чувственной культуры в чрезвычайно высоком уровне альтруистической кооперации, когда высока взаимозависимость между людьми, но и столь же высока взаимопомощь и взаимоответственность. Высокий уровень этнической кооперации достигается посредством все более глубокой социализации личности, когда ребенку в семье уделяют больше внимания. Такой ребенок, повзрослев, будет воспитывать своих детей столь же заботливо. Для таких людей соблюдение даже полностью потерявших практический смысл норм общежития не простое крючкотворство, а внутренняя потребность. Конечно же, это снижает пластичность общественных структур, поскольку таким людям трудно выходить за рамки общепринятых норм, даже когда это жизненно необходимо. Но в конкретных, стабильных условиях общественная организация таких людей особенно эффективна. На пике развития этноса люди, его составляющие, представляют наиболее сплоченное общество. И не случайно именно общества таких людей являются демократическими. Зачем нужны излишне жесткие законы, когда внутри нас закон и так излишне жесток. Все настолько зависят друг от друга и от собственного государства, что пресекают на корню любые проявления асоциального поведения со стороны своих соотечественников. В таком обществе достаточно незначительно превысить скорость движения за рулем своего авто – и тут же найдется законопослушный гражданин, который ради твоего же блага сообщит об этом в полицейский участок. Здесь каждый на службе собственных интересов, но все организовано так, что собственные интересы не отделимы от общественных. И это естественно, поскольку на пике развития любой сложной системы интеграция, а значит, и взаимозависимость достигают высочайшего уровня. Поэтому чувственная культура довольно долго сохраняет маску внешнего благополучия. Но альтруистическая интеграция хоть и низка в прагматическом этносе, но все время растет, а в чувственном, хоть и высока, но снижается. Поэтому уровень альтруистической кооперации также можно считать потенциалом, накопленным прагматической культурой.
В-третьих, государство служит гарантом благосостояния людей. В этот период оно служит обществу наиболее продуктивно и не позволит просто так неумеренным потреблением растратить капиталы своих граждан. К тому же потребление – это важнейший источник роста производства. Если грамотно организовать экономическую систему в государственном устройстве, тогда рост потребления (спроса) будет стимулировать рост производства. Впервые на это обратил внимание великий английский экономист Джон Мейнард Кейнс. В своей работе «Общая теория занятости, процента и денег», написанной в 1936 году, он показал, что если каждому работодателю в отдельности выгодно платить работникам поменьше, то в целом ему выгодней, когда все работодатели платят своим работникам больше, поскольку высокие доходы – это всегда высокое потребление [101, с.46]. Если в прагматическом обществе главной идеологией экономического развития была теория Адама Смита с его «правилом невидимой руки», когда каждый за себя, то при переходе к чувственной культуре аттрактором развития становятся уже не производители, будь то пивовары, мясники или булочники, а непосредственно потребители. В чувственном обществе, прежде всего, не булочник нас кормит, а мы его, потому что покупаем у него сдобу. Ведь когда производство работает эффективно, гораздо важнее реализация готового продукта. Клиенту нечего опасаться потерять булочника, когда их и так слишком много, а вот булочник как раз и должен опасаться потерять клиентов, которые фактически его кормят.
В обществе, в котором основными «кормильцами» становятся потребители, именно потребности превращаются в важнейший ресурс экономического процветания. Поэтому этнос, в котором высок уровень потребления, обречен на экономическое процветание, даже если у него низок производительный потенциал. Свято место пусто не бывает, в условиях рынка, когда есть спрос, всегда найдется что предложить, а вот когда нет устойчивого спроса, экономика задыхается. Поэтому основу экономической борьбы корпораций нового типа составляют не материальные ресурсы, а гораздо более значимый ресурс – спрос. Корпорации борются, прежде всего, за рынки сбыта, а чувственная культура всегда готова обеспечить самый высокий уровень потребления.
Общество интегрируется настолько, что производитель не может самовольно снизить зарплату. Законы, которые стоят и на страже его интересов, этого не позволят. Экономическая политика «кейнсианского управления спросом» знаменует начало постепенного перехода к регулируемой экономике. И не смотря на то, что впоследствии, после прихода монетаризма и рейганомики, линия Адама Смита, казалось бы, снова взяла вверх, это все же следует отнести к некоторой инерционности, связанной с тем, что мы слишком рьяно отдались возможности перехода к регулируемой экономике. К тому же возврат монетаризма в мировую экономику можно объяснить несколько запоздалой реакцией на частичную прагматизацию чувственной Западной культуры в результате величайшего социального катаклизма XX века – Второй мировой войны. Но регулируемая экономика опасна еще и тем, что она ведет к упрощению системы, снижению разнообразия. Именно поэтому спектр как товаров и услуг, так и профессий во времена социалистического устройства был неизмеримо ниже. Саморазвитие, основанное на рыночных механизмах саморегулирования, всегда увеличивает разнообразие, а вместе с тем и пластичность, устойчивость системы. Об этом писал Ф. А. Хайек, идеолог монетаризма и основной оппонент Кейнса [102]. Поэтому ни «монетаризм», ни «кейнсианство», ни «марксизм» не могут считаться единственно верными экономическими моделями. Все зависит от уровня интеграции и от того, какая этническая культура является доминирующей в государстве.
Мы мечемся в своих пристрастиях между Смитом, Марксом и Кейнсом, пытаясь втиснуть их теории в жесткие рамки текущей реальности, забывая при этом, что рамки эти далеко не статичны. Прагматической культуре больше подходит монетаристская экономика, чувственной – кейнсианская, поскольку чувственная культура, не имеющая собственных устремлений не только к росту, но и к сохранению, просто принуждает государство брать все больше функций управления на себя. Постепенно социальные и государственные секторы экономики врастают во все сферы рынка, что повышает стабильность, но снижает возможности самодвижения и роста разнообразия внутренней структуры.
Кстати, рост потребления в чувственной культуре будет расти, даже если мы и не будем проводить политику «кейнсианского управления спросом». Этим мы только ускоряем этот процесс, который, безусловно, чисто экономически выгоден. В прагматической культуре, несмотря на всю ее направленность к прогрессивному росту, главным экономическим тормозом является накопительство, когда значительная часть капиталов замораживается. В чувственной культуре капиталы неизбежно растекаются по капиллярам экономического организма, способствуя его росту. Поэтому государству, образованному этносом, представляющим прагматическую культуру, очень выгодно иметь также и представителей чувственной культуры. Но и для чувственного этноса желателен приток прагматических мигрантов, поскольку в культуре чувственной люди, в основной своей массе, менее предприимчивы. Но это все оценка сугубо экономическая, если же оценивать эти культуры аксиологически, тогда будет значительно сложнее понять – представитель какой из культур несчастнее. Прагматик-трудоголик, который всю жизнь зарабатывал, забывая об отдыхе, или эмпирик-эпикуреец, который всегда хотел большего и был несчастен, оттого что получал гораздо меньше.
Институты прагматической культуры постепенно исчезают, и мы все больше начинаем походить на граждан римского принципата, в период начала заката Римской империи. Кстати, население Рима со II века нашей эры также неуклонно сокращалось. Потребление ради потребления, жить – значит удовлетворять вожделения, а кто их удовлетворяет недостаточно, тот и не живет вовсе. Мы стремимся иметь все здесь и сейчас, до того как успеем это заработать, и государство и производители нам в этом помогают, кредитуя нас в счет будущих доходов, им это выгодно, ведь это и есть стимулирование спроса.
Как уже отмечалось, главная проблема чувственной культуры состоит в том, что именно в ней наиболее высока неудовлетворенность. Тому есть две основные причины, которые А. П. Назаретян называет «эффектом призмы» и «эффектом зеркала». Эффект призмы, согласно Назаретяну, «состоит в том, что восприятие исторической динамики искажается опережающим ростом ожиданий», эффект же зеркала «в том, что люди оценивают качество своей жизни через сравнение с жизнью других» [27, с.32]. Например, в 60-х годах XX века покупательная способность чернокожих граждан США была такой же, как у граждан Канады, а процент афро-американцев, учащихся в колледжах, превышал соответствующий процент от общего числа жителей Британских островов. Но афро-американцы проявляли недовольство своим положением, поскольку сравнивали его с жизнью не канадцев, англичан или тем более африканцев, а своих белых соотечественников [103, с.314-328].
Если в прагматической культуре искусство было лишь предметом торга и в лучшем случае служило целям сохранения и укрепления национальной самобытности, то в культуре чувственной искусство расцветает, но радует уже не душу и даже не разум, а органы чувств. Искусство приобретает функции сенсорного наслаждения, его цель ублажать тело, но не душу. И поэтому оно поверхностно, часто даже безнравственно и излишне, до фотографичности реалистично. Как отмечает Сорокин: «Вместо того чтобы поднимать массы до собственного уровня, оно, напротив, опускается до уровня толпы» [94, с.452].
В эпоху расцвета утилитаризма мы стремились как можно больше оставить детям, в культуре же чувственной так действуют только пассионарии, все прочие если что и оставляют, то только неоплаченные счета. Происходит массовая инфантилизация общества, важно только настоящее, будущего еще нет, поэтому оно и не существенно, эмпирики, как и дети, живут настоящим. Как отмечает известный американский экономист Дж. Стиглиц, «кредиторы скорее озабочены тем, чтобы избежать банкротства, а не тем, чтобы максимизировать прибыли; менеджеры скорее озабоченны прибыльностью в краткосрочном аспекте, чем долгосрочными перспективами фирмы» [104, с.52]. Интересные данные получил английский психолог С. Ли. Участникам эксперимента был предложен выбор между 5 фунтами, которые они получат сразу, и 10 фунтами через определенный срок. Респонденты отдавали предпочтение 10 фунтам только в том случае, если они их получат не позднее чем через 2 месяца. Ли заключает, что такой выбор практически неоправдан, поскольку: «Это было бы рационально, если бы темпы инфляции были порядка 5000%» [105, с.125]. Люди в чувственном обществе готовы промотать все, что имеют, но государство позволяет своим гражданам потратить лишь часть собственных доходов. Это достигается путем страхования вкладов, страховых пенсионных отчислений и организации социального страхования. А поскольку высокое потребление – это всегда высокие доходы производства, у государства средств для этого достаточно. Кстати, в таких обществах люди все чаще отказываются обеспечивать собственных детей после достижения ими совершеннолетия, государство и тут приходит на помощь.
По поводу стремления к стабильности, что характерно особенно для чувственной культуры, следует подчеркнуть, что именно этот аспект, присущий зрелым культурам, не имеет ничего общего с конкретной фазой этнического развития. Комплекс «премудрого пескаря» или «человека в футляре» связан только с пластичностью общественного сознания. Пластичность, в свою очередь, не зависит ни от каких конкретных общественных моделей развития, его снижение носит исключительно кумулятивный характер и подчиняется, по сути, только одной закономерности, чем интенсивнее прогрессивное развитие, тем выше темпы снижения пластичности.
Для более наглядной демонстрации такого, казалось бы, парадоксального утверждения – «прагматичная культура менее прагматична, нежели чувственная», смоделируем идеальную социальную систему. Образуем две виртуальные коммуны, состоящие исключительно из прагматичных людей и представителей эмпирического этноса соответственно. Допустим, что там, где они оказались, полностью отсутствует инфраструктура, но ресурсов более чем достаточно, причем обе коммуны полностью изолированы. Очевидно, что прагматическое население гораздо быстрее начнет осваивать свой остров. Однако с течением времени остров эмпирической культуры начнет его опережать. Все объясняется тем, что люди прагматического острова сразу все начнут активно осваивать ресурсы и обустраивать свой быт, независимо от индивидуальных способностей. В итоге там не будет явных фаворитов, а значит, дальше мелких артелей и ферм дело не пойдет, где все герои, там нет героев. На эмпирическом острове, где почти все люди прагматически пассивны, инициативу быстро возьмут пассионарии, а значит, концентрация капиталов и производства здесь будет выше, что естественно позволит впоследствии обеспечить более высокие темпы развития. К тому же стабильно высокий спрос, обеспеченный высоким уровнем потребностей, будет дополнительным фактором, способствующим росту производства, а высокий уровень этнической интеграции исключит бесхозяйственность. Но это идеализированная модель, в реальности ни о каком жестком делении культур не может быть и речи, поэтому прагматичные люди встречаются и в культуре чувственной, но только значительно реже. И вот именно эти немногие прагматики-пассионарии и будут иметь в чувственной культуре значительно больше возможностей для материального роста.
Конечно, многое зависит и от ряда факторов частного характера, но в целом государства, имеющие в своем составе чувственный этнический костяк, все равно обречены на экономический успех. Именно поэтому бедные ресурсами народы Прибалтики, в которых не было особенно ярких политических лидеров, все-таки смогли резко повысить уровень жизни после распада СССР.
Но червь все нарастающей неудовлетворенности точит чувственную культуру изнутри. Частичной компенсацией нарастающего несоответствия потребностей их удовлетворению служит снижение рождаемости. Все чаще при объяснении причин снижения числа детей в семье родители ссылаются на недостаточную материальную обеспеченность, хотя рождаемость, как правило, ниже именно в более обеспеченных группах населения. Объясняется все очень просто, поскольку неудовлетворенность нарастает кумулятивно с ростом материального уровня жизни, постольку именно более обеспеченным в первую очередь целесообразно уменьшить число иждивенцев в семье, а значит, тем самым частично снизить неудовлетворенность. Снижение рождаемости в жестко интегрированном обществе, где все предельно сбалансировано, особенно опасно. К тому же пластичность снижается до критически низкого уровня, когда любые мало-мальские флуктуации оборачиваются политическими и экономическими кризисами. Возможно, что, в конечном счете, начнется движение вспять, в направлении культурологической дезинтеграции.
Вполне естественно, что чувственная культура ориентирована главным образом на проекты, дающие скорый результат. Сворачиваются долгосрочные проекты, фундаментальные исследования, финансирование космических программ и т.д. Все это высвобождает капиталы для удовлетворения растущих чувственных потребностей населения, но снижает потенциал роста. Такая культура упадочна, по сути, она способна лишь пожинать плоды прагматической культуры, поэтому прагматизм ей жизненно необходим. Войны первой половины XX века заставили народы Европы временно забыть о культе чувственности. На развал материального окружения европейцы ответили компенсаторно-прагматической созидательностью. Уровень потребностей снизился на порядки, тут уж не до изысков. Произошел откат назад, равносильный омоложению. Благодаря такой вторичной прагматизации сознания Европа не только быстро компенсировала материальные и людские потери, но и приобрела дополнительный потенциал роста. Внешние и внутренние вызовы не только могут приостановить падение, но и обратить его вспять. Опаснее всего для стареющего этноса длительный застойный покой, и если к тому же сохранятся изолирующие барьеры, тогда неизбежен переход к идеациональной фазе с дальнейшим переходом в статичный реликтовый этнос. Войны, конечно же, никогда не бывают желательными, даже во спасение вырождающегося народа. Однако толчок, необходимый для всплеска прагматичности, народу все же необходим, и лучше, если этот толчок будет связан не с компанией за разрушение, а с компанией за созидание. Теоретически, если грамотно осуществлять регуляцию уровня потребления за счет привлечения доходов на крупные государственные проекты, а также если мудро регулировать миграционную политику, можно растянуть начавшийся распад на неопределенный срок. Ведь этнос весьма аморфен, даже в фазе чувственности, когда он менее пластичен. Как генетическая структура этноса, так и его духовная ось всегда активно меняются. Тому способствует непрекращающийся миграционный пресс со стороны молодых этносов, мигрирующих в эти внешне весьма благополучные общества.
Вот конкретный пример. Европа, а впрочем, и вся Западная культура, находилась в глубоком кризисе еще в первой половине XX века. Это отмечают многие исследователи (Данилевский, Шпенглер, Сорокин, Ортега-и-Гассет, экзистенционалисты и многие др.). Теперь многие считают такие пессимистические настроения преждевременными, а кризис якобы был связан с войнами и революционными переворотами. С одной стороны, действительно, резкий скачок уровня жизни Западной культуры во второй половине XX века, казалось бы, опроверг эти касандровы прогнозы. Однако войны на пустом месте не возникают и, так же как и революции, часто бывают не причиной, а следствием кризиса. Более вероятно обратное, на первый взгляд слишком смелое утверждение, что все эти военные катаклизмы напротив, отодвинули кризис на полвека. Разрушенная послевоенная инфраструктура активизировала внутренние резервы, повернула векторы развития в сторону прагматической созидательной активности. В сущности, особенно созидательна прагматическая культура. В начале XX века чувственная культура Запада, начала терять последние ростки своего прагматического прошлого с переходом к зрелой чувственной фазе развития, способной лишь на то, чтобы пожинать плоды, не ею взращенные. Точно так же и нынешняя чувственная культура Запада пожинает плоды частичной прагматизации европейцев под действием социальных катаклизмов первой половины XX века. Индустрия космоса, успехи ядерной и квантовой физики, информационные технологии – все это было рождено в середине XX века, когда Запад только начал оправляться от войн.
Причиной научного прорыва сороковых-пятидесятых годов лежит, в числе прочего, и в частичной дезинтеграции общественного сознания. Переосмысление ценностей, разочарование в идеалах прошлого, нарушение устоявшихся связей в сложившейся инфраструктуре образования и науки. А главное, значительная часть людей была вырвана из привычного ритма жизни, при этом социализация поколения военного времени проходила весьма поверхностно. Люди вынуждены были буквально взрослеть, еще фактически оставаясь детьми. Тут уж не до образования. Все это подрывало устойчивость общественного сознания, а значит, повышало его пластичность. В частности, разрушенные стереотипы мышления невольно способствовали росту оригинальных научных идей. Это следствие действия правила Копа: чтобы продвинуться вперед, надо отступить назад. Социальные катаклизмы невольно способствуют росту пластичности общественного и индивидуального сознания, но человек свободен в своем выборе развития и может найти другие, куда более невинные способы повышения пластичности. Опаснее всего застой в общественном развитии, а застой это не только мирная жизнь, это самоуспокоенность, отсутствие желания поиска новых путей развития. Именно такой застой общественного сознания и является следствием нынешнего застоя науки. Период застоя – это период высочайшего профессионализма, люди слишком хорошо знают возможности науки, чтобы создать невозможное.
Конечно же, наука и ныне движется вперед, причем все более ускоренными темпами, но всем этим мы обязаны предшествующему научному прорыву, ничего радикально нового современная наука так и не придумала. Открытий становится все больше, но они все менее впечатляющи. Мы все меньше меняем, и все больше улучшаем, и корректируем. Конечно же, нельзя отрицать, что число научных открытий, особенно в новейших областях знания (квантовая механика, генная инженерия, молекулярная биология, информационные технологии и некоторые др.), неизмеримо возросло. Но ведь это не совсем наука. Новые технологии дают нам возможность вторгаться в ранее неизведанное, не требуя особого аналитического таланта, необходима только специальная подготовка. Получил данные, интерпретировал, обобщил, подверг статистической обработке и объявил о новом открытии. Все это, конечно же, для науки важно, но для научного прорыва этого не достаточно. Нужно еще уметь задавать вопросы, уметь видеть перспективы, а главное – интегрировать полученный материал в целостное знание. А вот этого как раз многим современным ученным и не хватает для подлинного научного прорыва. Вот что пишет об этом Норберт Винер: «Я особенно счастлив, что мне не пришлось долгие годы быть одним из винтиков современной научной фабрики, делать, что приказано, работать над задачами, указанными начальством. Думается, что родись я в теперешнюю эпоху умственного феодализма, мне удалось бы достигнуть немного. Я от всего сердца жалею современных ученых, многие из которых, хотят они этого или нет, обречены из-за духа времени служить интеллектуальными лакеями или табельщиками, отмечающими время прихода и ухода с работы» [106, с.343].
До сих пор не удалось осуществить процесс управляемой термоядерной реакции и разработать общую теорию поля. И то и другое планировалось физиками еще в 50-е годы. Пилотируемые полеты на Марс и Венеру намечались еще в начале 80-х. Никто, кроме самых неисправимых пессимистов, не сомневался, что уже к концу XX века профессия космонавта станет такой же обыденной, как и профессия летчика. Обитаемые лунные станции, орбитальные и глубоководные города, антарктические и арктические научные городки с автономным микроклиматом, разработка сверхглубоких недр земли и богатейших ресурсов ближнего космоса. Этот список можно продолжить – список несбывшихся проектов XX века.
Альтернативные источники энергии, вопреки прогнозам, все еще занимают ничтожную долю в энергопотреблении. Наземный транспорт на воздушной подушке, шагающие вездеходы, махолеты, электромобили, авиатакси – все это пока еще для нас в диковинку, а ведь мы так рассчитывали, что все это примет повсеместное распространение уже во второй половине XX века. В середине двадцатого столетия никто не сомневался, что если к концу тысячелетия медицина и не победит старость, то, во всяком случае, отодвинет ее на десятилетия. И все же, по признанию академика Николая Амосова, возможности медицинской науки, при самых благоприятных условиях, ограничиваются продлением срока жизни не более чем на два года. И действительно, если с середины XIX столетия до середины XX века средняя продолжительность жизни возросла с 40 до 70 лет (имеются в виду усредненные данные для экономически развитых стран), то за оставшиеся полвека ничего практически не изменилось. И если ресурс продления жизни еще не исчерпан, то, во всяком случае, уже близок к исчерпанию. В авиа- и судостроении, а также в автомобильной и военной промышленностях наблюдается все та же картина, когда с конвейеров все чаще выходят новые модели, и вместе с тем они все меньше отличаются от своих предшественников.
На примере развития космонавтики можно проследить любопытную хронологию:
1957 год – спутник земли;
1959 год – лунная станция;
1961 год – полет человека в космос и в том же году, запуск первой станции на Венеру;
1962 год – полет первой станции на Марс;
1965 год – выход человека в открытый космос;
1969 год – высадка астронавтов на Луну;
1971 год – первая пилотируемая орбитальная станция;
1977 год – запущены спутники «Вояджер-1» и «Вояджер-2», совершившие первые орбитальные исследования Юпитера, Сатурна, Урана, Нептуна;
1981 год – первый космический корабль многоразового использования.
За 24 года 10 крупнейших вех в истории развития космонавтики, а за оставшиеся 24 года – ни одной. Мог ли предположить Нейл Армстронг, изрекая свой тщательно подготовленный экспромт, что его «маленький шаг человека» повторит лишь несколько человек, и последний «шаг» будет сделан в далеком, 1972 году. Сравните первый пилотируемый космический корабль с первым «Шаттлом». Далеко ли ушла эта техника за тот же последующий период? За 29 лет мы прошли путь от Фау-2 (1942) до пилотируемой орбитальной станции, а за последующие 29 лет наше максимальное достижение – это МКС. Что качественно нового на МКС в сравнении с первыми орбитальными станциями, кроме электронной начинки? МКС вмещает не более 6 человек, а как же орбитальные города, которые планировались уже к концу XX века?
Наука в чувственной культуре уже не может опираться на творческий «полет мысли», не только наполняющий эксперимент истинным содержанием, но и открывающим направления для поиска новых путей экспериментального исследования. Окончательно искалечив современную науку позитивизмом, мы променяли тем самым Ахилла на сотни черепах, работающих в целом более многогранно и эффективно, но не видящих дальше своего носа.
Для того что бы убедиться в истинности наметившегося спада в науке, достаточно провести мысленный эксперимент. Выделить определенное количество, на свой взгляд, самых выдающихся ученых, блиставших в период 1900–1950 годов и сопоставить их по значимости с таким же количеством выдающихся ученных последующего пятидесятилетия. Можно, конечно, объяснить такой спад временным застоем, связанным с исчерпанием существующих методик в рамках текущей научной парадигмы. Однако странно, что этот застой охватил сразу практически весь спектр научных исследований, к тому же при теперешних сверхвысоких темпах научных исследований полвека застоя – это слишком много.
Один из виднейших идеологов технократизма Ж. Фурастье, написавший в 1949 году книгу «Великая надежда XX века», являющуюся своеобразной библией технократизма, постепенно поменял свои принципы на прямо противоположные, став одним из первых, кто обратил внимание общественности на глобальные проблемы, связанные с гипериндустриализацией. К. Ясперс также указывает на угасание «прометеевского интереса» перед техникой. Пока еще ни о каком спаде речь не идет, но регрессивные тенденции в общественном сознании уже наметились. Здесь приходится согласиться с П. Сорокиным: чувственная культура привела нас к вершине материальной культуры, и теперь настало время для долгого и опасного спуска.
3.5. Сосуществование культур
Нации, при условии длительного спокойного сосуществования этносов, неизбежно превращаются в интегрированный, сплоченный монолит. И не важно то, насколько этносы, ее составляющие, различаются между собой, и даже расовые и конфессиональные отличия этносов не мешают этой сплоченности. Этносы являют собой результат дифференциации народов, а дифференциация, как известно, всегда усиливает интеграцию, и чем дальше этносы уходят культурологически друг от друга, тем выше сплоченность между ними. Это объясняется несколькими причинами.
Во-первых, народы не бывают хорошие и плохие, но они всегда отличаются по интересам, пристрастиям и способностям. Успех любой национальной экономики определяется, прежде всего, спросом, а спрос наиболее высок в обществах, дифференцированных по качеству потребляемых товаров и услуг. Но дифференцированное потребление делает эти дифференцированные по потребностям группы людей взаимозависимыми друг от друга. Например, характерного представителя чувственного этноса не заставишь работать в выходные и праздничные дни, но для отдыха тоже нужны работники в сфере услуг. Не меньшую роль играет также и дифференциация по способностям производить эти товары и услуги. Одни этносы больше склоны к работе в сфере услуг, другие в сфере науки и искусства, третьи в производстве. Все они нуждаются друг в друге гораздо больше, чем в культурах примитивных, в которых каждая семья живет натуральным хозяйством и обеспечивает себя практически всем необходимым, а потребности у них весьма незамысловаты. В этом и состоит утилитарная причина возросшей толерантности между этносами.
Вторая причина межэтнической интеграции столь же прагматична. Мы живем в эпоху массовых коммуникаций, когда весь мир воспринимается нами как наше общее достояние, мы все болеем за народы, терпящие бедствие, даже если и незнакомы лично ни с одним из ее представителей, сопереживаем им и радуемся успехам тех, кто даже и не думает поделиться с нами их плодами. Человек – существо по сути своей гуманное, несмотря ни на что, любовь составляет его суть, зло же, которое прорывается из нас, – это духовная болезнь, уродливо искажающая внутренние аксиологические векторы. Но в норме любовь и все, что способствует созиданию, составляет основную суть нашей души.
Куда мы направляли нашу любовь на протяжении сотен тысяч лет? На то, что расположено непосредственно вокруг нас. И вот теперь, последние буквально сто лет, мир изменился, и мы оказались в непривычной для себя обстановке, как ребенок, уверенный, что весь мир – это спальня и родители, внезапно выглянувший в окно многомиллионного города.
Почему терроризм как таковой не был известен раньше? Многие думают, это потому, что мир что-то раскачивает. Нет. Напротив, потому что мир стал стабильнее. Если о зловещем акте террористов узнает только кучка людей, да и те отреагируют на него соответственно угрозе, не более и не менее, он потеряет всякий смысл. В наше время мир настолько стабилен и настолько взаимозависим, что любой теракт, как гора на равнине, как грязное пятно саргассового моря в океане, становится особенно заметен, так или иначе, отдаваясь грозным эхом по всей планете. Если говорить с морально-этической стороны, то любые потери неприемлемы для общества, считающего себя демократическим. Но с прагматической точки зрения, практически любой теракт – это не более чем комариный укус. Мы не можем не реагировать на него, и в итоге такой цепной реакции мы получаем ответ, не соразмерный вызову. В этом и состоит цель террора – вызвать ответ, подобный анафилактическому шоку. При этом нас не волнует тот факт, что вероятность погибнуть на дорогах или от несчастного случая неизмеримо выше, и мы отважно игнорируем красный свет светофора, при этом старательно обходя места возможных терактов. А поскольку есть страх, задача государства состоит в том, чтобы вернуть нам уверенность в собственной безопасности. Создается ситуация, когда нельзя не реагировать, даже зная, что ответ не только может стать еще разрушительней самого теракта, но и даст террористам именно то, чего они и добиваются. Поэтому с таким врагом сложно бороться. В такой ситуации страх несет в себе значительно большую опасность, нежели его источник. Сталкиваются этносы, сталкиваются конфессии, теряется взаимодоверие, уходят инвесторы и рушится столь тщательно подогнанная интегрированная макроэтническая структура нации.
Интеграция необходима, но слишком высокая интеграция опасна, когда внешние и внутренние вызовы начинают зашкаливать за пределы, ограничивающие ее устойчивость. Поэтому победить волну террора значительно сложнее, чем ее предотвратить. Ситуация усугубляется также и тем, что многолетнее отсутствие серьезных вызовов, исходя из «принципа компенсации энтропийного возмущения», приводит к снижению резистентности этноса, когда даже незначительные вызовы оказывают критическое воздействие. Общество движется в сторону все большей стабильности, и это очевидно, поскольку, хотим мы того или нет, прогрессивное развитие всегда связанно с самодетерминацией. Даже такой, казалось бы, величайший социальный катаклизм в мировой истории, как Вторая мировая война, унес, в расчете на душу населения, гораздо меньше жизней, чем в рутинных войнах австралийских аборигенов [107]. А ведь они представляют реликтовый этнос, значительно уступающий по агрессивности древним первично-патриархальным культурам, в которых поголовное истребление побежденных народов было обычной практикой и способом выживания. Но и в современных примитивных патриархальных культурах большая часть мужского населения умирает все еще насильственной смертью, а значительная часть женского населения в результате инфантицида в целях частичного восстановления равновесия полов. Для современной же культуры любые человеческие жертвы воспринимаются крайне болезненно. Высокий уровень интеграции дает большие преимущества, но и нуждается в большей стабильности. Потребность в толерантности и стабильности все время нарастает еще и по причине снижения пластичности общества.
Таким образом, зрелая прагматическая культура, а уж тем более стареющая чувственная, особенно чувствительны к разрушительным социальным вызовам. Несколько обнадеживает лишь то, что стареющая культура не бывает агрессивной. В такой культуре терроризм родиться практически не способен, поэтому такие вызовы, как правило, бывают только внешними, из-за неумелого сосуществования с молодыми и потому агрессивными патриархальными культурами. Если бы культуры развивались синхронно, не было бы проблем, связанных с контактами разных и часто во многом несовместимых культур. Представители прагматической культуры вызывают антипатию соседей своей бездуховностью, патриархальной своей агрессивностью и отсталостью, а чувственной – своей праздностью и леностью. Нет чтобы оценить энергию и свободолюбие патриархальных народов, созидательность прагматичных культур и высочайшее культурное наследие и человеколюбие культур чувственных. Но мы часто видим только то, что нас отталкивает от культур чуждых, в этом проявляется атавизм, отголосок тех далеких эпох, когда любая чуждая культура действительно несла опасность. Многое из того, что мы приобрели от эпох минувших, все еще сидит в нас, противореча новому. Но у человека есть еще и разум, душа, которая иногда, казалось бы, вопреки разуму призывает нас к толерантности. И часто оказывается, что порывы души, каким-то непостижимым образом указывают нам интуитивно именно тот путь, какой разум только потом увидит и оценит как единственно верный. Мы сильны, пока сохраняем разнообразие культур. Проще всего выкроить всех по западной мерке. Материальные блага, которые она дает, другие культуры активно принимают, а с ней и атрибуты западной культуры. В чем-то это хорошо, но мы теряем главное – разнообразие этнического окружения, а с ней и пластичность и потенциал устойчивости.
Прагматическая культура как ветряная мельница, которую распирает от собственной мощи, но которая страдает от отсутствия ветра, все хотят только зарабатывать, но никто не хочет тратить. Можно было бы сказать, что чувственная культура – это маленькая мельница, работающая в полную мощь под ураганными потоками ветра, если бы чувственная культура не получила в наследство от предшествующей ей прагматической культуры ее мельничное хозяйство. К тому же, если есть ветер, найдутся и те, кто построит новые мельницы. Поэтому прагматическая и чувственная культуры нужны друг другу. Способность и желание тратить для экономики не менее, а, в чувственной культуре, скорее даже более важны, чем способность зарабатывать.
Настаивая на созидательности прагматической культуры и разрушительном характере культуры чувственной, нужно быть чрезвычайно осторожным в оценках. Внешне, а иногда даже и объективно, чувственная культура даже более созидательна, хоть и развивается не столь динамично. Но эта созидательность либо основана на использовании потенциала накопленного в прагматической фазе, либо инерционная.
Возьмем результаты глобального и уникального в своем роде «эксперимента», происшедшего на наших глазах в результате распада Советского Союза. Дело в том, что народы Советского Союза жили в условиях экономического диффузного выравнивания возможностей. Конечно же, в той степени, в какой это вообще возможно. Когда государственная поддержка как бы диффузно-гомогенна и не зависит от конкретной отдачи, всегда в выигрыше оказываются народы, находящиеся на прагматической фазе развития, в которых участие в государственном развитии минимально, а в личном максимально. В числе таких народов можно назвать, например, закавказские и некоторые среднеазиатские этносы. Работа на государственную машину в них составляла лишь часть, иногда даже меньшую, производительного труда. И это естественно, когда уровень интеграции невысок, а созидательный потенциал максимален. Поэтому когда успехи в государственном строительстве поощряются весьма условно, а успехи в личном обогащении пресекаются лишь отчасти, рост уровня жизни прагматических этносов будет обгонять таковой в чувственных культурах. После распада Советского Союза произошла обратная картина, прагматические этносы резко отстали по уровню жизни, а наиболее «зрелые культуры» народов Прибалтики, напротив, резко ушли вперед.
Казалось бы, сама жизнь подтвердила созидательность чувственной культуры. Но это верно лишь отчасти. Представим три изолированные коммуны, в которых одна будет состоять из юношей и подростков, другая из зрелых и пожилых людей и третья смешанная. Естественно, что вторая, контрольная, группа добьется больших успехов, нежели первая, и это несмотря на то, что созидательный потенциал у молодежи выше. Очевидно, что еще лучший результат мы получим в смешанной контрольной группе, в которой ответственность старших и энергия младших образует позитивный синтез. Известно, что молодые, прагматические этносы превосходят чувственные в малом и индивидуальном бизнесе, эмпирические этносы, в свою очередь, как правило, лучше реализуются в государственных структурах и крупных частных акционерных компаниях. Поэтому наиболее созидательный характер имеют общества, в которых успешно сосуществуют обе культуры. Представители прагматических культур лучше реализуют себя в государствах, в которых доминируют эмпирические этносы, но и чувственная культура выигрывает от притока свежих, полных энергией сил. Еще Н.Я. Данилевский отмечал, что для реализации подлинно высокой культуры необходим разнообразный «этнографический материал» [90].
Яркий пример такого позитивного синтеза – Соединенные Штаты Америки. Ортега-и-Гассет считал Америку молодой культурой, находящейся именно на том этапе развития, который мы именуем прагматической фазой этноэволюции. «И нас еще уверяют, что секрет – в американской жизненной философии, что суть Америки – в ее практицизме и культе техники! Вместо того чтобы сказать: Америка, как и любая колония, способствует опрощению – или омоложению – древних рас, в особенности европейской. По-иному, чем Россия, Нью-Йорк на свой лад воплощает ту особую историческую реальность, о которой говорят «молодой народ». Это не фигуральное выражение, как принято думать, а реальность, и не меньшая, чем молодой человек. Я всегда, стараясь не сгущать краски, утверждал, что это полудикий народ, закамуфлированный новейшими изобретениями» [24, с.128]. Но Америка – это не только молодая прагматическая культура, по многим признакам – это культура чувственная. По уровню материальных потребностей она уже далеко превзошла Римскую империю в период расцвета чувственной культуры античного мира. Она сочетает в себе признаки как молодой (агрессивность внешней политики, активная культурологическая экспансия), так и старой культур (высокий уровень потребления, особая чувствительность к потере своих граждан, чувствительность экономики к малейшей дестабилизации, устоявшаяся консервативная общественно-политическая структура). И именно этот позитивный симбиоз прагматизма и чувственности дает наилучшие результаты, во всяком случае, пока потенциал прагматизма не иссякнет. Если бы не постоянный приток эмиграции, наиболее зрелая чувственная культура Соединенных Штатов давно бы пришла к упадку.
Значительно больше проблем с сосуществованием возникает с культурами наиболее молодыми, первично-патриархальными. В таких культурах личный интерес так же второстепенен, как и государственный, гораздо важнее для них собственная самобытность и противодействие всему, что, так или иначе, способствует этнической ассимиляции. Поэтому единственно верная политика при взаимодействии с такими культурами – это политика невмешательства при максимально возможном экономическом содействии, дабы ускорить естественный, эволюционный переход к прагматической фазе развития. Именно естественный, в противном случае последствия непредсказуемы. Любой риск ассимиляции патриархальной культуры опасен резким всплеском национального самосознания.
Результатом взаимодействия культур может быть и формирование так называемых гибридных культур, которые часто формируются в результате тотальной межэтнической ассимиляции двух народов, представляющих разные культуры. А поскольку этносы, как и все сложные эволюционирующие системы, отличаются несумативностью, в результате такой взаимной ассимиляции, когда оба этноса примерно равноценны, могут сохраняться культурные императивы обоих народов. Поэтому такая форма взаимной ассимиляции скорее, по ряду черт, является интеграцией. Например, древняя армянская культура, впитав в себя многие черты прагматических кавказских народов, ныне представляет собой гибридную идеационально-прагматическую культуру. Этот поистине уникальный народ сочетает в себе черты как культуры высокодуховной, с богатейшим научным и культурным потенциалом, так и черты весьма прагматичного народа. Можно привести и множество других примеров формирования гибридных культур. Культура Китая также, по-видимому, является идеационально-прагматической, как и индийская культура. Последняя имеет еще и весьма ощутимые элементы патриархальной культуры.
Особое место занимает японская культура, которая является, пожалуй, единственной индустриально развитой культурой, являющейся не чувственной, а только прагматической, с отдельными элементами реликтовой идеациональной культуры. Таких экономических успехов японский этнос добился уже в прагматической фазе, по всей видимости, потому, что монголоидная раса отличается более развитыми началами коллективизма и поэтому достигает необходимого уровня интеграции уже в прагматической фазе. Американская культура, впрочем, как и российская, является чувственно-прагматической [48], а большинство патриархальных культур, в результате взаимодействия с родственными прагматическими культурами, являются по многим чертам гибридными патриархально-прагматическими культурами.
Если оценивать этничность исключительно в прагматическом ключе, тогда, при нынешнем уровне интеграции, этнические изоляционные барьеры, направленные на противодействие ассимиляции, можно считать излишними. Но этническая самобытность для нас самоценна, и чем меньше различия между этносами, тем сильнее центробежные силы между ними – это естественная реакция самозащиты, основанная на «принципе компенсации энтропийного возмущения». Ведь опасность ассимиляции особенно высока именно между наиболее генеалогически близкими этносами. И несмотря на то, что интеграция чувственной и прагматической культур выгодна, этнос борется за сохранение собственного этнического облика.
Но в Новое время взаимозависимость народов настолько возросла, что разжигание межнациональной розни гораздо опаснее возможной ассимиляции. Наш век должен стать веком толерантности. Вместе мы сильнее, сила государства в его людях, а чем они разнообразнее как по характерам, так и по образу жизни, тем лучше. Русские подкупают своей искренностью и честностью, горцы гордым нравом, гостеприимством и щедростью (которая парадоксально сочетается с прагматичностью), евреи народ весьма одаренный, либо лучше других умеет реализовывать свою одаренность, японцы и китайцы весьма трудолюбивы. Многие «примитивные» народы подкупают своей чистотой и незамутненностью помыслов. Немцы пунктуальны, американцы практичны, англичане элегантны, французы галантны. И когда мы вместе, лучшие черты каждого народа служат нам примером. Люди наиболее симпатичны именно в многонациональных регионах, потому что, живя вместе с кавказцами, нам стыдно быть мелочными, живя вместе с русскими, нам стыдно быть чванливыми. Мы хорошеем перед лучшим. Этноцентризм же – стремление к сохранению своей этнической общности – сводит к самоизоляции, приводящей к потере критериев хорошего. Ведь лучшее поистине враг хорошего только в творчестве.
3.6. Закат этноса: идеациональная фаза и реликтовая
культура
А. Швейцер считал, что «цивилизация создается через решение двойной задачи: утверждение превосходства разума, во-первых, над силами природы, а, во-вторых, над человеческими страстями. Мы можем отнести господство над природными силами к материальному прогрессу, но утверждение превосходства разума над человеческими страстями – это духовное достижение» [108, с.24]. В чувственной этнической культуре власть над природой вроде бы велика, но разум все больше превращается в раба человеческих страстей. Жить ради удовлетворения собственных потребностей – все равно, что пить соленую воду: больше пьешь, сильнее жаждешь. Счастья от этого больше не становится. И как бы цинично это ни звучало, американская женщина может страдать ничуть не меньше оттого, что ее не пригласили на банкет, чем эфиопская мать, которой нечем кормить детей.
В связи со сказанным будет уместно вспомнить легенду о древнегреческом фессалийском царе Эрисихтоне, которого покарала богиня Деметра за вырубленную священную рощу постоянным ощущением голода. Приведем выдержки из этой весьма глубокомысленной легенды в вольном пересказе Овидия:
Сладостный сон между тем Эрисихтона нежил крылами
Мягкими: тянется он к соблазнительно снящимся яствам;
Тщетно работает ртом; изнуряет челюсть об челюсть,
Мнимую пищу глотать обольщенной старается глоткой.
Но не роскошную снедь, а лишь воздух пустой пожирает.
Только лишь сон отошел, разгорается буйная алчность,
В жадной гортани царит и в утробе, отныне бездонной.
Тотчас всего, что земля производит, и море, и воздух,
Требует; блюда стоят, но на голод он сетует горько.
Требует яств среди яств. Чем целый возможно бы город,
Целый народ напитать – для него одного не довольно.
Алчет все большего он, чем больше нутро наполняет,
Морю подобно, что все принимает земные потоки,
Не утоляясь водой, выпивает и дальние реки,
Или, как жадный огонь постоянно питания алчет
И без числа сожирает полен, и чем больше получит,
Просит тем больше еще и становится все ненасытней,–
Так нечестивого рот Эрисихтона множество разных
Блюд принимает и требует вновь: в нем пища любая.
К новой лишь пище влечет. Он ест, но утроба пустует.
Вот истощает уже, голодая пустою утробой,
Средства отцовские. Ты лишь один, о, безжалостный голод,
Не притуплялся внутри; не смиренное пламя пылало
В глотке его. Наконец все имущество кануло в чрево.
Современный западный человек тоже в чем-то подобен Эрисихтону который, в конечном счете, тщетно пытаясь насытить плоть, в порыве отчаяния пожрал самого себя.
После того как алчба достояние все истощила,
Снова и снова еду доставляя лихому недугу,
Члены свои раздирать, зубами грызть Эрисихтон
Начал: тело питал, убавляяся телом, – несчастный! [109, с.271–273]
В этой легенде заложен глубокий философский смысл, уже древние греки видели порочность и бесперспективность жизни только во имя услаждения собственных страстей. Впервые на это обратил внимание Ю.А.Жданов [110, с.3–8]. Некоторые, впрочем, уже чувствуют всю безысходность такой погони за собственными потребностями, возникают различные неформальные объединения, которые сплачивает пассивный протест против бездуховного потребительства. Но и они – это тоже своего рода потребители, киники нашего времени. Они ничего не производят, не создают, а только отрицают. Это естественные предвестники начала распада. Так было всегда, сначала отдельные личности переходят на такую пассивную форму протеста, как, например киники древней Греции, а затем, с распадом материальной культуры, это уже становится нормой. Ортега-и-Гассет довольно нелестно отзывается о киниках [49]: «Едва средиземноморская цивилизация достигла своей полноты, как на смену выходит циник. Грязными сандалиями Диоген топчет ковры Аристиппа. В III веке до рождества христова циники кишат – они на всех углах и на любых постах. И единственно, что делают, – саботируют цивилизацию. Циник был нигилистом эллинизма. Он никогда не создавал – и даже и не пытался. Его работой было разрушение, вернее старание разрушить, поскольку он и в этом не преуспел. Чего стоил бы он и что, спрашивается делал бы среди дикарей, где каждый безотчетно и всерьез действует так, как сам он действовал напоказ и нарочито, видя в том личную заслугу» [24, с.97]. Наверное, все-таки киники не заслуживают такой жесткой оценки, а Диоген заслужил всеобщего уважения, вовсе не стремясь к этому. Согласно известной легенде о Диогене, Македонский сказал, что «если бы он не был Александром, он хотел бы стать Диогеном». Ведь для дикарей простота жизни проистекает не от желания, а от возможностей и, главное, от незнания жизни другой, они не испорчены цивилизацией, не познали наркотического влияния его удобств, от которых потом трудно отказаться. В нарочитом протесте киников против потребительства кроется именно желание вырваться из этого порочного круга, когда насыщение еще больше усиливает чувство голода. На закате эллинской культуры потребительство достигло своего апогея, а вместе с ним и чувство внутренней опустошенности античной элиты. Киники не разрушали, а только отражали грядущее разрушение, как зеркало, смотрящее в будущее.
С начала XX века, также в связи с наметившимся глобальным кризисом культуры эмпирической (экологические проблемы, истощение ресурсов, болезни цивилизации, культурное обнищание), становится все более популярной идеология «нового аскетизма» (Н. А. Бердяев, М. Ганди, А. Печчеи и многие др.). Эти киники Нового времени сначала всем кажутся чудаками, потом, по мере разрушения инфраструктуры чувственной культуры, они находят все больше сочувствующих среди населения, вызывая симпатии своей аскетической духовной покоенностью с самим собою. Разложение ускоряется еще и потому, что чувственная культура, потребительская по сути, постепенно растрачивает весь накопленный материальной культурой потенциал, и тогда разрыв между потребностями и удовлетворенностью начинает уже лавинообразно нарастать. Аскетичность уже никого не удивляет, и наконец это становится нормой, что знаменует переход к идеациональной фазе развития, характеризуемой Сорокиным как «унифицированная система культуры, основанная на принципе сверхчувственности и сверхразумности Бога, как единственной реальности и ценности» [94, с.430].
Многие известные мировые религии возникли именно в этносах, переживающих идеациональную фазу развития. Очевидно, платой за такое духовное перерождение является остановка или даже обращение вспять развития культуры материальной, эмпирической. Человеческое покорение собственного окружения замещается человеческим покорением самого себя. Но человек слаб в своих вожделениях, и как бы он ни осознавал всю безысходность культа потребительства, мало кто способен добровольно отказаться от благ цивилизации. Для этого необходим толчок. И он не заставит себя долго ждать, поскольку чувственная культура, при всей своей экономической эффективности, не имеет потенциала долгосрочного развития, и человек, достигнув пика интеграции в чувственной фазе, неизбежно начинает сначала неспешный, но все ускоряющийся шаг к дезинтеграции, разобщению.
Пока чувственная культура сохраняет в себе разумные зерна прагматизма, она особенно эффективна в своем развитии. Однако жизнелюбие чувственной культуры, в конечном счете, перерастает в гипертрофированную форму, когда потребление начинает превышать производство, культура неизбежно движется к упадку. Довольно красноречиво закат этноса («фаза обскурации») рисуется у Л.Н. Гумилева, «в мягкое время цивилизации, при общем материальном изобилии «жизнелюбы» начинают размножаться без ограничений. Всякий рост становится явлением одиозным, трудолюбие подвергается осмеянию, интеллектуальные радости вызывают ярость. В искусстве идет снижение стиля, в науке оригинальные работы вытесняются компиляциями. Ценятся не способности, а их отсутствие, не образование, а невежество, не стойкость во мнениях, а беспринципность. Но тут приходит возмездие: жизнелюбы умеют только паразитировать на жирном теле объевшегося за время «цивилизации» народа. Сами они не могут ни создать, ни сохранить. Они разъедают тело народа, как клетки раковой опухоли организм человека, но, победив, они гибнут сами» [54, с.501]. Если человечество вовремя не образумится, не освободится от комплекса Эрисихтона, комплекса ненасытного «жизнелюба», оно поглотит самое себя.
Однако можно ли переход к идеациональной культуре считать закатом этноса? Скорее наоборот, это переход к подлинным императивам развития этноса, когда этнос приходит к пониманию всей сизифовой безысходности бесконечной гонки за собственными потребностями. Если считать основной задачей прогресса человеческой культуры достижение счастья максимального числа людей, тогда переход к культуре идеациональной – это подлинный прогресс. Например, в Индии, где, несмотря на патриархальность культуры, из которой уже активно прорастают ростки прагматизма, все еще сильны основы, возможно, самой древней из идеациональных культур, удовлетворенность жизнью превышает таковую большинства развитых стран. И это при том, что Индия, несмотря на высочайшие темпы экономического роста, все еще остается одной из беднейших стран мира. И может быть, поэтому социалистическое прошлое, несмотря ни на что, нам не кажется таким уж мрачным, ведь тогда мы были в большей гармонии между своими потребностями и возможностями. После осознания собственного конца этнос начинает осознавать важнейшую значимость подлинной аксиологической культуры, ведь духовность – это по сути единственное, что нас отличает от животных, поставить во главу угла именно духовные начала – значит осуществить подлинный рывок в своем развитии. Именно на закате своей истории римляне осознали подлинную истину: memento mori – помни о смерти.
Особое место в этноэволюции занимает реликтовая фаза этнического развития, которая может быть следствием как перерождения патриархальной культуры, так и результатом окончательного распада культуры идеациональной. Напомним, что патриархальная культура совсем не обязательно должна перейти в прагматическую. Если не будет внутренних источников, а главное – внешних стимулов для резкого подъема потребностей, тогда культура, не имея стимулов для роста, либо гибнет в результате уничтожения, а чаще ассимиляции, либо перерождается в реликтовую культуру. Прагматическая и эмпирическая культуры перейти естественным путем непосредственно к мемориальной фазе развития, как она трактуется у Гумилева, не могут. Связано это с тем, что они прошли необратимый порог роста потребностей, образовав причинно-следственную петлю обратной связи, в которой потребности являются одновременно и результатом, и источником борьбы за их удовлетворение. И пока этот порочный круг не будет разбит, они могут идти только по пути еще большего их возрастания. Внешне такая культура мало чем отличается от патриархальной культуры, поэтому ее можно также назвать вторично-патриархальной культурой. Обращает на себя внимание лишь пассивность этнических реакций на внешние и внутренние вызовы, отсутствие какого-либо желания развиваться и распространять свою культуру. Такие народы Брейзиг назвал «народами вечного рассвета», потому что они навсегда застряли в неподвижных, мерзлых сумерках, которые не растопить никакому полдню. В отличие от первично-патриархальной культуры, где может ограничиваться только количество дочерей, вплоть до инфантицида, в культуре вторично-патриархальной ограничивается деторождение вообще, поскольку реликтовая культура – это статичная культура в состоянии гомеостаза, и рождение допускается только для восполнения людских потерь.
Особый интерес представляют исследования венесуэльского племени яномамо, живущего в бассейне Амазонки, поскольку, в отличие от большинства сообществ охотников-собирателей, существующих в сегодняшнем мире, яномамо культурно автономны. Другими словами, они не находятся под непосредственной политической властью или влиянием внешних культур. Отмечено, что между яномао идет непрерывная межплеменная война, которая казалось бы не имеет никаких практических целей, кроме убийства иноплеменников. Н.А. Шаньон, который в 1960–1970-е годы изучал яномамо, считает, что конфликт, демонстрируемый ими, имеет отношение к репродуктивной способности. Анализируя полученные данные, Шаньон обнаружил, что мужчины яномамо, которых почитают за убийство членов вражеского племени, имеют в среднем жен в 2,5 раза больше, а детей в три с лишним раза больше, чем мужчины, которые не убивали. Таким образом, успешный рейд, как правило, связанный с высокими боевыми навыками и агрессивными тенденциями, повышает репродуктивную способность [3].
При генетическом анализе таких примитивных племен обнаружены некоторые отличия от людей цивилизованных сообществ. А поскольку реликтовые культуры являются культурами законсервированными в развитии, некоторые антропологи пришли к выводу, что человек продолжает эволюционировать и биологически. Просто они не могут даже помыслить, что это не они, а аборигены эволюционируют, поскольку находятся под постоянным жестким давлением естественного отбора. Они лишь социально статичны, а биологически, благодаря консервации социально-культурологического развития и проживанию в более благоприятных экологических условиях, значительно пластичнее людей из цивилизованных сообществ. Как биологический вид человек довольно молод. Он попросту преждевременно состарился в связи с интенсивным социальным развитием (сверхвысокие темпы жизни, гипертрофированные потребности, стрессы, проблема генетического груза и снижение пластичности). И поэтому, несмотря на то, что в культурологическом плане такие этносы являются чудом сохранившимися реликтами, в плане биологическом они чрезвычайно молоды, и в этих культурах таится значительный потенциал развития человечества.
Перерождение в реликтовый этнос возможно только в условиях изоляции, когда нет внешних стимулов развития и культурологическая пассивность не грозит ассимиляцией. Именно поэтому реликтовых этносов не так уж и много, и все они находятся в изолированных областях. Что это, выродившаяся первично-патриархальная культура, как у австралийских аборигенов, либо состарившаяся идеациональная культура, как, вероятно, у некоторых северных народов? Ответы на эти вопросы можно найти по сохранившимся отголоскам ушедшей культуры, в мифологии реликтового этноса.
Вместо заключения
Излечим ли «комплекс Эрисихтона»?
Все проходит, все стареет, все разрушается.
Экклезиаст
Человечество всегда занимал вопрос о том, что его ждет если не в конце пути, то, во всяком случае, в отдаленном будущем. Если развитие человечества связанно с ростом интеграции, не приведет ли это к формированию настолько глубоко интегрированного и жестко сплоченного монолита, что мы потеряем индивидуальную свободу? Но человек двойственен по своей природе, двойственен он и в своих общественных началах. С одной стороны, наши общественные начала двигают нас к коэволюционной сплоченности, с другой – человеку присуще внутреннее стремление к свободе, поэтому, все же хочется надеяться, что мы не придем к обществу, в котором каждый отдельный индивид ничто.
Культуры, как и этносы, не монадны, т.е. не автономны, как считали Данилевский и Шпенглер, их пронизывает неразрывная нить преемственности. Ни одна сколь-нибудь значительная культура не уходит с арены истории в полное забвение, не передав эстафетную палочку прогрессивного развития грядущим поколениям. И потому каждая новая патриархальная культура менее патриархальна и каждая новая чувственная культура более чувственна. Потребности представителей современной чувственной культуры неизмеримо выше аналогичных культур прошлого. Вот что пишет по этому поводу Ортега-и-Гассет: «Возьмем самое житейское – например, покупку. Представьте, что два человека, один – в наши дни, а другой – в XVIII веке, владеют одинаковым, соответственно ценам обеих эпох, состоянием, и сравните ассортимент товаров, доступных тому и другому. Разница фантастическая» [24, с.34–35]. К тому же технический прогресс и тиражирование продукции позволило ее значительно удешевить для потребителя. Вероятно, современный обыватель, оказавшись в положении средневекового феодала, радовался бы этому совсем недолго, пока не понял бы, что приобрел и что потерял. Ортега-и-Гассет это написал в 1930 году, тогда телевидение еще только появлялось, не было видео, информационных технологий, сотовой связи и даже автомобиль далеко еще не стал обычным семейным атрибутом, разница столь же фантастическая. Каждый следующий виток этноэволюции гораздо ближе к чувственной стадии, и этнос быстрее ее достигает, чтобы вновь упасть в темное патриархальное прошлое, но падения все менее глубоки, а взлеты все более высоки. Поэтому, сколь ни казалась нам тревожной тенденция вырождения культуры Запада, проявляется и более опасная тенденция вырождения всей человеческой культуры.
В любом случае все материальные богатства чувственной культуры опираются на концентрации капиталов и ресурсов в передовых индустриальных государствах, представляющих так называемый «золотой миллиард». Ресурсов планеты попросту не хватит для того, что бы обеспечить столь же сносное, в материальном отношении, существование всем прочим ее жителям. Поэтому чувственная культура, даже при самом удачном раскладе техногенного роста, в принципе, не способна обеспечить материальное благополучие для всех. Махатма Ганди, когда его спросили: «Достигнет ли Индия, добившаяся независимости, уровня жизни Великобритании?», ответил: «Британии потребовались ресурсы половины планеты, чтобы достичь своего процветания, сколько потребуется планет для страны, подобной Индии?».
Не менее критично к проблеме роста человеческих потребностей подходит и Конрад Лоренц, обращая внимание на «опасный циклический процесс… ведущий к постоянному возрастанию человеческих потребностей. Понятно, что каждый производитель всячески стремится повысить потребность покупателей в своем товаре. Ряд «научных» институтов только и занимается вопросом, какими средствами можно лучше достигнуть этой негодной цели… Дьявольский круг, в котором сцеплены друг с другом непрерывно нарастающие производство и потребление, вызывает к жизни явления роскоши, а это рано или поздно приведет к пагубным последствиям все западные страны, и прежде всего Соединенные Штаты; в самом деле, их население не выдержит конкуренции с менее изнеженным и более здоровым населением стран Востока. Поэтому капиталистические господа поступают крайне близоруко… вознаграждая потребителя повышением «уровня жизни» за участие в этом процессе и «кондиционируя» его этим для дальнейшего, повышающего кровяное давление и изматывающего нервы бега наперегонки с ближним» [77, с.19].
Какой можно предложить сценарий выхода из кризиса, если он вообще возможен? Главной и самой очевидной рекомендацией, какую можно дать, – это стратегическая установка на медленное естественно-эволюционное снижение уровня потребностей. Ведь человек не животное, он в состоянии образумить свои неуемные желания, грозящие как экологической катастрофой, так и духовно-социальной деградацией. Это чрезвычайно сложно, как отказаться от наркотика, и более того, чревато всевозможными катаклизмами, ведь потребности – основной двигатель прогрессивного развития, поэтому необходимо весьма мягкое давление на общество. Особенно позитивна установка на постепенное замещение излишне гипертрофированных материальных потребностей – духовными и роль государства тут неоценима, для этого необходимо обеспечить стимулирование духовного роста. Силовые пути снижения потребностей абсолютно неприемлемы, возможен только путь пропаганды естественного гармоничного образа жизни. При этом нужно отдавать отчет в том, что это неминуемо приведет к резкому экономическому спаду. Но это та цена, которую необходимо заплатить за счастье людей. Кому нужен экономический подъем, который ведет к нарастанию неудовлетворенности, экологическим кризисам и стрессам, связанным с высочайшими, доселе невиданными темпами жизни.
Упрощение жизни естественным путем решит многие проблемы общества. Например, экологический кризис, связанный с излишним прессом на природу, обусловлен не столько перенаселенностью, как считают многие экологи, сколько гипертрофированными потребностями человечества Нового времени. В условиях когда, например США, где материальные потребности наиболее высоки, потребляет примерно столько же природных ресурсов, сколько и весь остальной мир, притом, что не составляет и 1/30 части населения Земли, утверждать, что экологический кризис связан с перенаселенностью, просто смешно. Конечно же, необходимы меры, связанные с экологическим воспитанием, контролем за рождаемостью и за соблюдением экологических норм. Однако концентрироваться только на этом все равно, что решать проблемы в собственном доме, который заполняется мусором быстрее, чем его успевают вывозить с помощью хорошей уборщицы. Причем рождаемость можно снижать лишь посредством косвенных стимулов, здесь, так же как и с потребностями, никакие насильственные либо законодательные меры неприемлемы.
Пластичность общественных структур может возрасти в результате снижения уровня потребностей. Ведь общество, по сути, сделает шаг назад в тех аспектах общественного устройства, в которых мы слишком далеко зашли. Ведь только таким путем человечество сможет приостановить «тепловую смерть эмоций», важнейшего симптома, вероятно, самой страшной болезни цивилизации, «комплекса Эрисихтона». Человеческий организм получит вторую молодость, ведь длительный настрой наших организмов на экологическую загрязненность сделал нас гораздо устойчивее к нему, когда же уровень загрязнения снизится хотя бы незначительно, мы почувствуем себя столь же комфортно, как в эдемском саду. Для еще большего роста биологической пластичности можно рекомендовать искусственную неотению путем постепенного смещения родов на более ранние сроки (ретардации). Чем раньше человек вступает в этот мир, тем он лучше успеет приспособиться к нему. Конечно же, опрощение жизни может привести к снижению уровня медицинского обслуживания, а искусственная ретардация возможна только в условиях его высочайшего уровня, особенно это важно в первые месяцы постнатального развития ребенка. Но думается все же, что и эта проблема разрешима. Впрочем, упрощение инфраструктуры потребления может и не сопровождаться адекватным упрощением инфраструктуры медицины, образования и духовной сферы, если акцентировать усилия в этом направлении.
Не так просто отказаться от прогресса. Поэтому все концепции, так или иначе сводящиеся к рекомендациям к снижению темпов прогрессивного развития, часто наделяются такими нелестными эпитетами, как экологический пессимизм либо дажефундаментализм. Прогресс, конечно же, является необходимой стадией эволюционного развития, но, как и в любой другой диссипативной системе, экспонента развития общества неизбежно должна перейти в логисту. Развитие не может длиться бесконечно, оно неизбежно стабилизируется на уровне своего предельного насыщения. И у человечества должно хватить мудрости и прозорливости, чтобы вовремя остановиться и не дать логисте стабильности быстро перейти в кривую регресса. С.Хайтун пишет: «Ускорение эволюции – такой же фундаментальный закон природы, как и закон возрастания энтропии. Против эволюции не попрешь! Наши действия, направленные по вектору эволюции, имеют смысл, направленные против – смысла не имеют и попросту опасны для нас. Эволюция направлена в сторону нарастания процессов превращения энергии. Все, что в наших действиях направлено в эту сторону, – разумно; все, что тормозит процессы превращения энергии – лишено смысла, неразумно и грозит нам гибелью» [111]. Данная мысль характерна для прогрессистов, однако почему тогда возрастание энтропии не имеет нелинейного характера, а прогрессивное развитие сложных эволюционирующих систем всегда нелинейно? Если эти процессы столь тесно взаимосвязаны, почему тогда здесь нет прямой коррелятивной связи? Хотя в целом надо признать, что прогрессивное развитие систем, далеких от равновесия, можно считать следствием противодействия второму началу термодинамики, закону всеобщей деградации. Но это противодействие не может нести такой же фундаментальный характер, иначе в конечном счете нелинейное прогрессивное развитие превысит эктропийную деградацию, что немыслимо, поскольку противоречит, возможно, самому фундаментальному физическому закону. Одним фактом своего существования нелинейные системы не только вынуждены постоянно компенсировать асимметрию между собственной неравновесностью и все большим уравниванием тепла в природе, но и постоянно увеличивают этот дисбаланс. Это связанно с тем, что они вынуждены постоянно обесценивать значительные количества эктропии для сохранения собственной неравновесности. И это только при пассивном наличном существовании неравновесности. Если же неравновесная система будет экспоненциально прогрессивно развиваться, тогда это противоречие начнет расти значительно быстрее. Поэтому экологический конфликт между неравновесностью и окружающей равновесной средой неизбежен. Вопрос лишь в скорости его нарастания. Взрыв тротиловой шашки и вековое тление торфяников тоже являются разными способами решения этого конфликта. Поэтому ускорение развития – это всегда ускорение гибели, а не наоборот. Дело в том, что неравновесность слишком эфемерна и редка во Вселенной, чтобы ее можно было считать закономерным фундаментальным ответом на глобальное обесценение порядка.
В отношении политики межэтнических взаимоотношений следует помнить, что основным ресурсом этнического роста народов, находящихся на пике развития, являются примитивные культуры, которые питают нас энергией и высоким внутренним потенциалом развития. Эти заповедные островки этнической молодости, органично сосуществующие с природой, необходимо беречь, и не нужно торопиться испортить их нашим потребительским к ней отношением. В отношении первично-патриархальных культур необходим еще более деликатный подход, молодость всегда агрессивна и потому опасна, уровень этнического самосознания в них и так высок и нет никакой необходимости еще более повышать его необдуманным вмешательством. Если же развитие патриархальной культуры приняло агрессивный характер, необходимо методом материального стимулирования способствовать ее естественному переходу к прагматической фазе развития, исключая любые формы политического вмешательства.
Не менее остро перед человечеством стоит проблема накопления «генетического груза». Напомним, что эта проблема связана с тем, что в результате отсутствия такого эволюционного фактора, как «естественный отбор», и резкого возрастания мутагенного воздействия в окружающей среде происходит постепенное накопление вредных мутаций, что снижает биологическую резистентность человеческого организма. Возможно, единственным решением данной проблемы является ранняя диагностика генетических аномалий в эмбриональном развитии. Впрочем, искусственная ретардация может значительно ослабить либо даже вообще свести на нет данную опасную тенденцию, поскольку более молодой и потому более пластичный организм гораздо лучше компенсирует отрицательные эффекты вредных мутаций. Решение экологических проблем человечества так же может в значительной степени решить эту проблему, поскольку это значительно ослабит мутагенный фон.
Все стареет и умирает, но человечество являет собой качественно новую, духовную сущность, возможности которой теоретически не ограничены. И от того, насколько мы сможем оторваться от того материального мира, который нас приближает к миру животному, принципиально ограниченному в своем развитии, зависит, закончим ли мы бесславно свой яркий, но короткий путь в истории, либо начнем свое восхождение к новому будущему.
Ссылки
[1] По современной классификации, многие ученые (Р. Фоули, А. А. Зубов, Д. Ферембах, Джек и Линда Палмер, Э.Уилсон и др.) пришли к выводу, что человек разумный (Homo sapiens) – это не только современный человек, но и архаичные сапиенсы. Поэтому современный человек кроманьонского типа выделяется не в отдельный вид, а в отдельный подвид Homo sapiens sapiens.
[2] Есть все основания предполагать, что около 6,5 млн лет назад человекообразная обезьяна Orrorin tugenensis (тугенский прачеловек), или же близкий к нему вид, дала начало двум эволюционным линиям, одна из которых привела к шимпанзе, другая к гоминидам, наиболее древним из которых и был австралопитек.
[3] Некоторые антропологи наиболее примитивные африканские формы Homo erectus выделяют в отдельный вид Homo ergaster – человек работающий.
[4] Основной ошибкой многих биологов является трактовка генома, как простой суммы генов, это далеко не так, геном представляет собой сложнейший комплекс сетей генетических паттернов, и поэтому сенсационные сообщения о якобы полной расшифровке человеческого генотипа верны лишь отчасти. Мы этим лишь открыли вершину айсберга, далее предстоит гораздо более сложный путь анализа того, что таится ниже ватерлинии. По образному выражению Добжанского, геном работает как оркестр, а не как ансамбль солистов.
[5] Основным конечным продуктом выделительной системы земноводных и млекопитающих является мочевина, у рептилий же, как и у птиц, таким конечным продуктом азотистого обмена является мочевая кислота, которая, в отличие от мочевины, практически нерастворима в воде, что позволяет выводить мочу в кашицеобразном состоянии, практически не теряя воду. Другим, не менее очевидным преимуществом мочевой кислоты в сравнении с мочевиной является то, что она практически не токсична. Более примитивная организация выделительной системы млекопитающих, приближающая их к древнейшим наземным позвоночным – амфибиям, связана, по всей видимости, с тем, что они произошли от гораздо более древних рептилий, сохранивших множество амфибийных признаков.
[6] Пойкилотермия – нестабильная, меняющаяся в зависимости от температуры внешней среды, температура тела, в отличие от гомойотермии теплокровных, когда температура тела не зависит от температуры внешней среды.
[7] Приводятся усредненные величины.
[8] Неотения, или гипоморфоз, – задержка онтогенеза, способствующая сохранению инфантильных признаков, сопровождающаяся, в случае полной неотении, с приобретением способности к половому размножению до наступления стадии взрослого состояния. В случае с фетализацией гоминид можно говорить только о неполной неотении или фетализации, при которой происходит только задержка развития.
[9] В настоящее время, в связи с очевидными успехами медицины, возраст новорожденных смещается на еще более ранние сроки.
[10] Данный признак наверняка имел множественную генную закладку, что, впрочем, сути никак не меняет.
[11] В животном мире имеются все же редкие исключения, но связанные с совсем другими причинами. У некоторых животных, у которых основную роль в выхаживании потомства играют самцы (например, морские коньки), инициатива в выборе полового партнера переходит к самцам. Самки у морских коньков не только внешне более привлекательны, но и более агрессивны и соперничают друг с другом за самцов. Дело в том, что межполовой отбор по механизму выбора партнера закономерно определяется полом, в большей степени заботящимся о потомстве и вынужденным быть крайне избирательным в поисках партнера среди представителей пола, менее нагруженного родительскими заботами.
[12] Основная суть дарвиновской эволюции заключается в стремлении к распространению собственной генетической линии. Именно в этом и заключается детерминистский смысл повышенной сексуальной активности самцов, ведь повышение сексуальной активности самок никак не может способствовать распространению их генов.
[13] Под эволюционирующими системами в данной работе подразумеваются сложные диссипативные системы, находящиеся в состоянии, далеком от равновесия, и способные после прохождения критического порога притока эктропии перейти на качественно новый уровень неравновесности. Иными словами, это только такие неравновесные структуры, которые в потенциале детерминированы на прогрессивное развитие. Пока к таким системам можно отнести только биологические и социальные системы, возможно, к таковым можно причислить еще и некоторые предбиологические гиперциклические структуры, элементарные открытые каталитические системы (ЭОКС), описанные А.П.Руденко, а также искусственно созданные человеком самоорганизующиеся интеллектуальные системы. Впрочем, последние можно отнести к производным социальной инфраструктуры.
[14] Очень остроумный, на наш взгляд, довод против попыток редукционистов свести сложное к сумме простого приводит Э.Майр: «Однажды в зоопарке я бросил еноту кусок сахару. Схватив сахар, животное побежало с ним к миске с водой и начало энергично мыть его до тех пор, пока от него ничего не осталось. Сложную систему не следует разбирать на части до такой степени, чтобы от нее не оставалось ничего существенного» (см. [35, с.26–27]).
[15] У Докинза культурогены трактуются как «мимы».
[16] Здесь и далее под «неодарвинизмом» понимается не концепция А.Вейсмана, а синтетическая теория эволюции.
[17] Гипоксия – кислородная недостаточность.
[18] В данном случае термин «альтруистическое поведение» не применим. Это уже «альтруизм» не поведенческий, а гораздо более глубокий – морфофизиологический.
[19] В некоторых популяциях, например перепончатокрылых, с гаплоидными самцами и диплоидными самками, коэффициент rl у прямого потомства будет уже не 0,5, а 0,75 у самок и 0,25 у самцов, в случае же партеногенетического и бесполого размножения 1.
[20] Ведь во всех случаях, когда «ген альтруизма» так и не привел к спасению потомства, можно считать, что «природа сделала холостой выстрел».
[21] Именно упущение этого факта привело, по мнению автора, к существенной недооценке Докинзом роли в эволюционных процессах неродственного альтруистического поведения.
[22] При низких частотах роль «альтруистического гена» будет незаметна, поскольку он будет гаситься в общей аллели доминантным «эгоистичным» геном.
[23] Иногда эволюционисты ссылаются также на такие стохастические факторы эволюционного процесса, как «популяционные волны» и «эффект бутылочного горлышка», представляется все же что, в целом эти определения дублируют термин «дрейф генов».
[24] Кто знает, сколько потенциальных героев умерло своей смертью, так и не найдя применение своей жертвенности.
[25] Впрочем, если строго следовать Докинзу, то последнее свойство исходит не от организма, а от гена, для которого организм лишь носитель, но не будем столь же радикальны во взглядах.
[26] Для живых систем Докинз считает, что все известные формы альтруистической эволюции в действительности являются замаскированной формой эволюции эгоистической.
[27] В данном случае такой термин будет уместнее, чем признанный социобиологами термин «культуроген».
[28] Под самосознанием Бромлей понимает «сознание своего единства и отличия от всех других подобных образований, фиксированном в самоназвании (этнониме)» (см. [52, с.58]).
[29] Под этноцентром мы понимаем группу лиц с повышенным уровнем этнического самосознания, играющую роль устойчивого этнического ядра, не позволяющего этносу ассимилироваться в наиболее сложные для него периоды.
[30] Эволюционные процессы могут протекать значительно легче в малых и относительно замкнутых популяциях, когда повышается вероятность распространения случайных мутаций просто потому, что действие статистического «закона больших чисел» ослабляется, и полезные мутации не тонут в океане нормальных генов. Именно такое явление в биологии называется «дрейф генов». У Гумилева почему-то под «генным дрейфом» понимается «явление рассеивания пассионарного признака за пределы популяции путем случайных связей».
[31] Под консорциями Гумилев понимает группы людей, объединенных одной исторической судьбой, – кружки, артели, секты и т.д.
[32] Конвиксиями, согласно Гумилеву, являются группы людей с однохарактерным бытом и семейными связями.
[33] Все же американскую нацию нельзя считать целостным этносом, это хоть и довольно сплоченный макроэтнос, но все еще представляющий союз частично автономных эндогамных этнических групп. Например, все афро-американцы, независимо от собственных этнических корней, по-видимому, уже представляют единый этнос, сохраняющий благодаря частичной внутренней генетической и культурологической эндогамии относительную этническую самостоятельность.
[34] Казалось бы, как может меняться этика этноса? Этические принципы всеобщи и непреходящи. Всеобщи, но не всегда статичны. Ведь даже такой принцип, как «не убий», имеет множество исключений у некоторых народов, как, например, традиция кровной мести.
[35] Следует уточнить, что в казаках состояли также и некоторые представители украинцев, осетин и даже мусульман калмыков, в данном случае мы рассматриваем только русских казаков.
[36] В одних случаях ограничивающее влияние на число бифуркационных решений оказывает среда (конвергенция), в других это связано с общностью строения организмов и наследственного аппарата (параллелизмы и закон гомологических рядов).
[37] Пессимум – в противоположность оптимуму, характеризует наихудшие условия среды.
[38] Деление как культур, так и этносов на отсталые и развитые в настоящее время оспаривается большинством этнографов и культурологов. Дело в том, что в различных культурах критерии развитости могут сильно разниться, а технократическая культура вообще по многим параметрам может быть причислена к отсталой (бесхозяйственное отношение к природе, неконтролируемый культ потребительства, часто даже сочетающийся с бездуховностью). Поэтому понятие «отсталый» принимается в данной работе не в общепринятом уничижительном смысле, а только как неспособность культуры или этноса на адекватные «ответы» на внешние «вызовы».
[39] В философских работах часто термин «конвергенция» отождествляется с термином «интеграция». Этот термин позаимствован из биологии, в биологии же под термином «конвергенция» понимается приобретенная общность строения в результате проживания в сходных условиях. Общность эта, как, например, между дельфинами и акулами, часто обманчивая и только внешняя.
[40] Идеациональной культурой, согласно П. Сорокину, является культура, которой свойственна трансцендентальность мышления и ориентация на сверхчувственные, духовные начала.
[41] Если же в патриархальной культуре экономия не несет нагрузку выживания, тогда она вообще не имеет места.
[42] «Экономия ради расточительства» звучит как тавтология, однако экономить можно не только на себе любимом.
[43] В отличие от Сорокина, автор считает истинно чувственной только фазу, идущую следом за прагматической. Разве можно отождествлять стремление к созиданию, пусть даже и практически только лишь предметному, культом чувственности.
[44] В действительности, конечно же, эпикуреизм нельзя отождествлять с гедонизмом. Эпикур, который отличался аскетичностью, проповедовал чувственное наслаждение посредством ограничения потребностей. Однако, с легкой руки французской школы философии, эпикурейцами стали называть гедонистов.
[45] По Ф. Ауэрбаху, эктропия – величина, обратная энтропии, характеризующая степень упорядоченности системы.
[46] Приведем следующую, ставшую уже классической, цитату из Адама Смита: «Не от благожелательности мясника, пивовара или булочника ожидаем мы получить свой обед, а от соблюдения ими своих собственных интересов. Мы обращаемся не к гуманности, а к их эгоизму. Каждый человек при этом имеет в виду лишь собственную выгоду, причем в этом случае он невидимой рукой направляется к цели, которая не входила в его намерения» [99, с.28].
[47] Термин «национализм» в Западной традиции имеет несколько иное звучание и обозначает национальную идею или любое другое интегрирующее нацию в пределах государственности начало, в российской традиции понятие «национализм» отождествляется с понятием «этноцентризм».
[48] Впрочем, русская и американская культуры качественно различны по уровню этнической зрелости, дело в том, что американская культура находится на стадии зрелой чувственности, пожалуй, даже наиболее зрелой, в России же чувственная культура только нарождается. Правда, американская культура моложе российской, но реально она более зрелая, поскольку развитие американской культуры протекало интенсивнее.
[49] Киники проповедовали не столько отказ от благ цивилизации, сколько безразличие к ним, поэтому, часто пользуясь этими благами, проповедовали простоту жизни. Отсюда и название «циник», «циничный». Вместе с тем верно именно такое отношение к материальным благам, поскольку проблема не в них, а в неумеренном стремлении к ним.
Литература
- Харитонов В.М., Ожигова А.П., Година Е.З., Хрисанфова Е.Н., Бацевич В.А. Антропология. М.: ВЛАДОС, 2003.
- Джохансон Д., Иди М. Люси: Истоки рода человеческого. М.: Мир, 1984.
- Палмер Д., Палмер Л. Эволюционная психология: секреты поведения Homo sapiens. СПб.: Прайм-ЕВРОЗНАК, 2003. – 384 с. // www.ermak-ag.ru/library.php
- Мень А. История религии. Кн. 1. В поисках пути, истины и жизни. М.: Форум, 1999. – 216 с. // www.ermak-ag.ru/library.php
- Кликс Ф. Пробуждающее мышление. История развития человеческого интеллекта. Киев: Высшая школа, 1985.
- Бутовская М.Л. Эволюция человека и его социальной структуры // www.ermak-ag.ru/library.php
- Фоули Р. Еще один неповторимый вид. Экологические аспекты эволюции человека. М.: Мир, 1990.
- Дарвин Ч. Происхождение видов путем естественного отбора. М.: Просвещение, 1987.
- Грант В. Эволюция организмов. М.: Мир, 1980. – 489 с.
- Харрисон Дж., Уайнер Дж., Тэнер Дж., Барникот Н., Рейнолдс В. Биология человека. М.: Мир, 1979.
- Miller, G.F. How mate choice shaped human nature: A review of sexual selection and human evolution. In C. Crawford & D. L. Krebs (Eds.), Handbook of evolutionary psychology: Ideas, issues, and applications. Mah-wah, NJ: Eribaum, 1998.
- Смит Дж. Мэйнард. Эволюция поведения // Эволюция. М: Мир, 1981.
- Martin R.D. Human Brain Evolution in an Ecological Context. New York: American Museum of Natural History, 1983.
- Шмальгаузен И.И. Проблемы дарвинизма. Л.: Наука, 1969.
- Рогинский Я.Я., Левин М.Г. Антропология. М.: Высшая школа, 1978.
- Рогинский Я.Я. Проблемы антропогенеза. М.: Высшая школа, 1977.
- Дарвин Ч. Происхождение человека и половой отбор. Соч. Т. 5. М.: Изд-во АН СССР, 1953. – 640 с. www.ermak-ag.ru/library.php
- Лоренц К. Агрессия (так называемое зло). М.: Издательская группа «Прогресс», «Универс», 1994.
- Энгельс Ф. Роль труда в процессе превращения обезьяны в человека // К.Маркс, Ф.Энгельс. Соч. Т. 20. М., 1961.
- Лавджой К.Оуэн. Эволюция выпрямленного способа передвижения у человека // В мире науки. 1989. № 1.
- Rodman P.S., McHenry H.M. Bioenergetics and the origin of hominid bipedalism // American Journal of Physical Anthropology, 1980. №52. P. 103–106.
- Дебец Г.Ф. О некоторых направлениях изменений в строении человека современного вида // Советская этнография. 1961. №2.
- Майр Э. Эволюция // Эволюция. М.: Мир, 1981.
- Ортега-и-Гассет Х. Восстание масс. М.: ООО «Издательство АСТ»: ЗАО НПП «Ермак», 2003.
- Быстров А.П. Прошлое, настоящее, будущее человека. Л., 1957.
- Федоренко Н.П., Реймерс Н.Ф. Стратегия экоразвития // Взаимодействие общества и природы как глобальная проблема современности: Тезисы теоретической конференции. М.; Обнинск: ВНИИСИ, 1991.
- Назаретян А.П. Цивилизационные кризисы в контексте Универсальной истории: Синергетика, психология и футурология. М.: ПЕР СЭ, 2001.
- Винер Н. Кибернетика или управление и связь в животном и машине. М.: Советское радио, 1968.
- Анохин П.К. Биология и нейрофизиология условного рефлекса. М.: Медицина, 1968.
- Франкл В. Человек в поисках смысла. М.: Прогресс, 1990.
- Шевлоков В.А., Тайсаев Д.М. Особенности эволюции диссипативных систем // Известия Кабардино-Балкарского научного центра РАН. 2004. №1(11).
- Казютинский В.В. Антропный принцип, универсальный эволюционизм и самоорганизация // Мыслители-выходцы из земли Коми: В.П. и В.В. Налимовы. Сыктывкар: Издательство Коми научного центра УрО РАН, 2001.
- Энгельс Ф. Роль труда в процессе превращения обезьяны в человека // Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 20.
- Симонов П.В. Мотивированный мозг. М.: Наука, 1987.
- Майр Э. Эволюция // Эволюция. М.: Мир, 1981.
- Huxley T. Evolution and Ethics. L., 1894.
- Рьюз М. Эволюционная этика: здоровая перспектива или окончательное одряхление? // Вопросы философии. 1989. № 8.
- Шульга. Н. Эволюционная эпистемология Майкла Рьюза // Эволюция, культура, познание. М.: Ифран. 1996.
- Докинз, Р. Эгоистический ген. М.: Мир, 1992 // http:// seismic.geol.msu.ru /travels/index.html.
- Кропоткин П.А. Взаимная помощь, как фактор эволюции. М., 1918.
- Уоддингтон К.Х. Морфогенез и генетика. М.: Мир, 1964.
- Кейлоу П. Принципы эволюции. М.: Мир, 1986.
- Малахов С.В. «Экономический человек» и рациональность экономической деятельности (обзор зарубежных исследований) // Психологический журнал. № 11. 1990.
- Гумилев Л.Н. Конец и вновь начало. М.: Айрис-пресс, 2003.
- Гегель Г.В.Ф. Философия права. Полн. собр. соч. Т.3. М.: Мысль, 1990.
- Кушнер П.И. Этнические территории и этнические границы. М., 1951.
- Токарев С.А. Проблемы типов этнических общностей: (К методологическим проблемам этнографии) // Вопросы философии. 1964. №11.
- Миланова Е.В., Рябчиков А.М., Чебоксаров Н.Н. и др. Страны и народы: земля и человечество: Общ. обзор. М., 1978.
- Крюков М.В. Еще раз об исторических типах этнических общностей // Советская этнография. 1986. № 3.
- Гумилев Л.Н. О термине «этнос». Этнос как явление // Доклады отделений и комиссий Географического общества СССР. Вып. 3. Л., 1967.
- Широкогоров С.М. Этнос. Исследование основных принципов изменения этнических и этнографических явлений // Отдельный оттиск из XVIII. Т. I. Известий Восточного факультета Государственного Дальневосточного университета. Шанхай, 1923.
- Бромлей Ю.В. Очерки теории этноса. М.: Наука, 1983.
- Бромлей Ю.В. Этнос и этнография. М.: Наука, 1973.
- Гумилев Л.Н. Этногенез и биосфера земли. СПб.: Азбука классика, 2002.
- Неру Д. Открытие Индии. М.: Изд-во иностр. лит., 1955.
- Тхагапсоев Х.Г. К российским превращениям либерализма // Вопросы философии. 2004. №12.
- Ревуненкова Е.В., Решетов А.М. Сергей Михайлович Широкогоров // Этнографическое обозрение. 2003. №3.
- Тишков В.А. Этничность, национализм и государство в посткоммунистическом обществе // Вопросы социологии. 1993. № 1.
- Андрианов Б.В., Чебоксаров Н.Н. Хозяйственно-культурные типы и проблемы их картографирования // Советская этнография. 1972. № 2.
- Эдди Дж. История об исчезнувших солнечных пятнах // Успехи физ. наук. 1978. Т. 125. Вып. 2.
- Чижевский А.Л. Земное эхо солнечных бурь. М.: Мысль, 1973.
- Гумилев Л.Н., Иванов К.П. Этносфера и космос // Этносфера: история людей и история природы. СПб.: ООО «Издательский дом «Кристалл», 2003.
- Гумилев Л.Н. География этноса в исторический период. Л.: Наука, 1990.
- Вернадский В.И. Химическое строение биосферы Земли и ее окружения. М.: Наука, 1965.
- Гумилев Л.Н. О соотношении природы и общества согласно данным исторической географии и этнологии // Этносфера: история людей и история природы. – СПб.: ООО «Издательский дом «Кристалл», 2003.
- Тойнби А.Дж. Постижение истории: Сборник. М.: Айрис-пресс, 2002.
- Тайсаев Д.М. К критике генетического детерминизма Л.Н. Гумилева // Философское осмысление социально-экономических проблем. Волгоград: Политехник, 2006. С. 150-156.
- Пригожин И., Стенгерс И. Порядок из хаоса: Новый диалог человека с природой. М.: Эдиториал УРСС, 2000.
- Татаринов Л.П. Очерки по теории эволюции. М.: Наука, 1987.
- Джуссоев Р. И. К вопросу национальной идентификации осетин (к итогам Всероссийской переписи населения 2002) // http://www.ethnonet.ru/lib/1012-04.html.
- Айала Ф.Х. Механизмы эволюции // Эволюция. М.: Мир, 1981.
- Эшби Р.У. Введение в кибернетику. М., 1959.
- Моисеев Н.Н. Человек и ноосфера. М.: Мол. гвардия, 1990.
- Вавилов Н. И. Закон гомологических рядов в наследственной изменчивости. Л.: Наука, 1987.
- Краснощеков Г.П., Розенберг Г.С. Экология в цитатах и афоризмах. Тольятти: Издательство ИЭВБ РАН, 2001.
- Князева Е.Н. От открытия к инновации: синергетический взгляд на судьбы научных открытий // Эволюция, культура, познание. М.: Изд-во Ифран, 1996.
- Лоренц К. Восемь смертных грехов цивилизованного человечества // Оборотная сторона зеркала. М.: Республика, 1998.
- Тойнби А.Дж. Цивилизация перед судом истории: Сборник. М.: Айрис-пресс, 2003.
- Жданов Ю. А., Гуськов Е. П., Бессонов О. А. Причины вымирания видов // Научная мысль Кавказа. Ростов, 2000. № 2.
- Арнольд В. И. Теория катастроф. М.: Наука, 1990.
- Буровский А.М. Экстремальные ситуации и мыслящее вещество. // Общественные науки и современность, 2000. № 5.
- Завадский К.М., Колчинский Э.И. Эволюция эволюции: Историко-критические очерки проблемы. Л.: Наука, 1977.
- Майр. Э. Популяции, виды и эволюция. М.: Мир. 1974.
- Банов Х.Т., Перепелица В.А., Соколов Ю.Н., Тлисов А.Б., Тлисова С.М. Глобальный закон развития человечества // Вестник Северо-Кавказского гуманитарно-технического института. Вып. 1. Ставрополь, 2001.
- Буданов В.Г. Этика, эсхатология, синергетика // www.synergetic.ru/science/ index.php?article=eticka
- Лурье С. Историческая этнология. М.: Аспект Пресс, 1998.; Цит. по: http://svlourie.narod.ru/.
- Гудожник Г.С., Елисеева В.С. Глобальные проблемы в истории человечества. М.: Знание, 1988.
- Вернадский В.И. Химическое строение биосферы Земли и ее окружения. М., 1965.
- Лурье С. Национализм, этничность, культура. // Общественные науки и современность. 1999. №4.
- Данилевский Н.Я. Россия и Европа. СПб.: Глаголь, 1995.
- Давидович В.Е. Существует ли кавказская цивилизация? // Научная мысль Кавказа. 2000. №2.
- Черносу В.В. Кавказ – контактная зона цивилизаций и культур // Научная мысль Кавказа. 2000. №2.
- Тхагапсоев Х.Г. Южная Россия: Кавказский этнокультурный мир как тип локальной цивилизации // Региональные культуры средневековья на территории России: Сб. научных статей. СПБ., 2001.
- Сорокин П. А. Человек. Цивилизация. Общество. М.: Изд-во политической литературы, 1992.
- Шпенглер О. Закат Европы: Очерки морфологии мировой истории. Т. 1. Образ и действительность. Минск: Попурри, 1998.
- Smith A. National Identity. L., 1991.
- Бриттан С. Капитализм с человеческим лицом. СПб.: Экономическая школа, 1998.
- Симонов П.В. Мотивированный мозг. М.: Наука, 1987.
- Смит А. Исследования о природе и причинах богатства народов. М., 1962.
- Миллер А.М. Теория национализма Эрнеста Геллнера и ее место в литературе вопроса // Национализм и формирование наций. М.: Ин-т славяноведения и балканистики РАН, Международный фонд югославских исследований и сотрудничества «Славянская летопись», 1994.
- Хайтун С.Д. Социальная революция и Джон Кейнс: от прошлого к будущему // Вопросы философии. 2003. №10.
- Хайек Ф.А. Пагубная самонадеянность. Ошибки социализма. М.: Новости, 1992.
- Петтигрю Т.Ф. Расовые отношения в Соединенных Штатах Америки: Социологическая перспектива // Американская социология. Перспективы. Проблемы. Методы. М.: Прогресс, 1972.
- Стиглиц Дж. Кредитные рынки и контроль над капиталом // Мировая экономика и международные отношения. 1989. №6.
- Lea S. E. G., Tarpy R.M., Webley P. The individual in the economy: a survey of economic psychology. Cambridge, 1987.
- Винер Н. Я математик. М.: Наука, 1963.
- Blainey G. Triumph of the nomads. A history of ancient Australia. Melbourne – Sidney: Macmillan co. of Australia, 1975.
- Schweitzer A. Kulturphilosophie. Verfail und wieder aufbau der Kultur. München, 1926. Bd. I.
- Публий Овидий Назон. Любовные элегии. Метаморфозы. Скорбные элегии. М.: Художественная литература, 1983.
- Жданов Ю.А. Роковой комплекс Эрисихтона // Научная мысль Кавказа. 1997. №3.
- Хайтун С. Прогнозы и мифы о «тепловой смерти» // Независимая газета. 2000. 22 ноября.
© Д.М. Тайсаев. © Издательство М. и В. Котляровых (Полиграфсервис и Т).